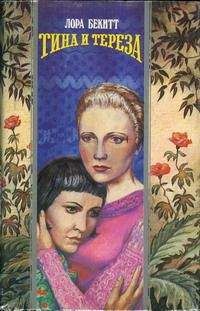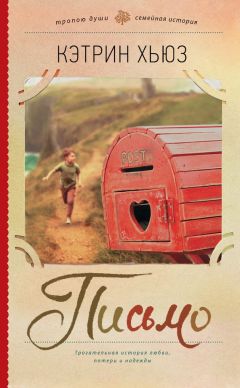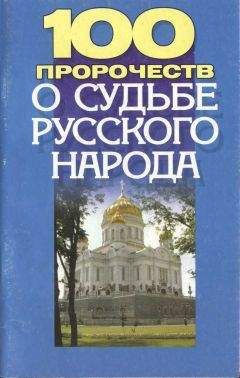Ольга Кучкина - Смертельная любовь
– Что вы делали?
– В театре у Валерия Фокина занималась зарубежными гастролями.
– Он ревновал?
– Он никогда об этом не говорил. Я расстраивалась, когда читала некоторые стихи: как ты мог такое про меня написать? Он говорил: ты слишком буквально воспринимаешь литературу. Я как дурочка рыдала, сидя над его стихами, посвященными другим женщинам.
– Стало быть, не он, а вы ревновали?
– Ужасно. Может, он умел скрывать, зрелый человек, я не умела.
– Он утешал вас?
– Нет, смеялся. Я думаю, он меня любил, а с другой стороны, в первые годы, наверное, его охватывал ужас: что я делаю с этой девочкой! Потом-то он понял, что я его человек, и для меня всего важнее, чтобы с ним было хорошо. Я за него могу жизнь отдать, он это точно знал.
– Вы догадывались, что он умрет раньше вас?
– Когда все случилось, моя мама, прилетевшая на девять дней, говорила: я смотрю на тебя и поражаюсь, чего ты так убиваешься, у вас 44 года разницы, ясно было, что он раньше тебя умрет.
– Он ведь выступал в мэрии против войны в Чечне и там умер?
– Это был Татьянин день, 25 января. Мы отмечали на работе, я задержалась на полчаса. Пришла домой, его нет. Думаю: пошел после выступления куда-то выпивать. Бывало, я за ним в ЦДЛ ехала среди ночи на такси. Ну хочется человеку, пусть. Вдруг звонок. Женский голос: Марина? Я говорю: нет, это не Марина, это Ирина. Думаю, кто-то знал его первую жену, перепутали. Снова звонок и тот же голос: это поэтесса Татьяна Кузовлева, мы вместе с Юрием Давыдовичем выступали, ему стало плохо. Я сразу спросила: он жив? Она что-то забормотала и положила трубку. И в третий раз позвонила, стала говорить о реанимации, я опять спросила: он жив? Она сказала: нет. Она еще говорила: мы хотим вам привезти документы, вещи, объясните, как проехать. Я ответила: я не могу объяснить, я не могу ничего сообразить, перезвоните позже. У меня не бывает истерик, но я должна была с этим как-то справиться. Вскоре они приехали… Я на людях не плачу. Во всяком случае, стараюсь. Это был такой удар, который трудно сразу осмыслить. Я плакала потом, очень много, когда его похоронили. Мы жили в доме, где, я была уверена, никто нас не знает. Оказалось, все знали. И когда я плакала ночью – а я же была совершенно одна, – я, видимо, так рыдала, что пришла пожилая соседка и говорит: я слышу, как ты плачешь, я хочу тебе сказать, у нас в деревне говорили, что за такой смертью в очереди настоишься, не плачь, смерти, как у него, лучше не бывает.
– Помогло вам это?
– В какой-то мере, да. Я поняла, что для него это правда лучше всего. Он страшно боялся смерти. Разговоры о смерти, о старости – это было табу у нас. Я подумала, какой был бы ужас – для него, – окажись он парализован. Потом уже начались психиатры, мне казалось, я схожу с ума. И ужасное чувство вины.
– Это оборотная сторона любви. Когда любишь – всегда чувствуешь вину. Он был для вас прежде человек, потом поэт?
– Для меня неважно было, что он известный поэт. Но вот эта высокая детскость, которую и он в людях ценил, необычайная интеллигентность, интеллект…
– Я просто думаю, все-таки пожилой человек, чем мог взять: что красавец, что пылко ухаживал?
– Во-первых, он был красавец. У него было такое лицо, которое взгляд сразу выхватывал из толпы. Мои сверстницы обычно меня не понимают. Но в нем была бездна обаяния. К нему все тянулись. Мы приходим в ЦДЛ в ресторан, когда там можно было пообедать на два-три рубля. Выходной, дети. Он говорит: сейчас все дети придут ко мне. Через пятнадцать минут все тут. Он ничего для этого не делает. Не приманивает, не зовет. Все собаки, все кошки шли к нему, он их не прикармливал. Он приходил в гости и говорил: дайте салфетку, потому что ваша собака со своими слюнями сейчас будет возле меня. Говорят: да наша собака ни к кому не идет. Он говорит: салфетку. Собака садилась рядом с ним и никуда не уходила. Это было поразительно.
– И вы как собака или кошка?..
– Ну да. И женщины так шли за ним. Я понимала, что до меня у него было много женщин, они подтвердят, что в нем была бездна обаяния. Его отношения с женщинами благороднейшие. Для него женщина не утилитарна, не просто источник получения наслаждения. Каждая – непостижимая тайна. Не восторженное отношение, нет, но все-таки как к чуду. Его богатый опыт прибавлял, а не отнимал.
– Вы перечитываете его стихи, какие у вас отношения с ними?
– Мне не надо перечитывать, потому что я огромное количество их знаю наизусть. Все, что я люблю, во мне. Я всегда сидела в зале на его вечерах. Я все запоминала. Я могла воспроизвести его манеру чтения, он ужасно смеялся.
– А то, что вам посвящено?
– Когда я читаю или кто-то читает, радости мне не доставляет. Это слишком сильное ощущение, это больно.
– Как вы живете? С ним или уже без него?
– Трудно сказать. За это время вышло пять книг. Вечера проходят. Я занята его наследием. Я человек неверующий и не мистический. Но он мне постоянно снится живой, видимо, потому что я не видела, как он умирал. Я видела его на похоронах, но это было очень странно. Когда уже мы приехали в морг, и меня спрашивали, в чем похороним, у меня до последнего была мысль, что они перепутали. И только когда вышел санитар и спросил: ваш с усами, такой невысокий, – я поняла, что это он.
– Если б вам пришлось его характеризовать как человека, что бы вы сказали?
– Я скажу вам первой. Мне кажется, он человек, который прожил не свою судьбу, не свою жизнь. Он всегда играл какие-то роли, навязанные временем, страной, семьей: роль воина, роль плейбоя, роль мужа, роль любовника. Эти роли он все играл прекрасно. Он прекрасным был воином – у него орден Красной Звезды. Он прекрасным был отцом. Плейбоем тоже будь здоров, у него хорошо получалось. Но чем дальше, тем больше у меня ощущение, что он был просто очень одаренный ребенок. Он рано перестал быть ребенком. В 19 лет он уже был на фронте. Ему хотелось уйти от родителей, они жили в маленьком городке, в Донбассе, ему хотелось в большой город. Уехал в Москву, поступил в знаменитый ИФЛИ, потом началась война, потом женился, потом надо было кормить семью, потом дети, квартиры. Один его друг считает, его погубило то, что его втянули в политические игры, ему противопоказанные.
– Он был отзывчив на всякую боль, его ранило то, что происходило в стране.
– Он играл в эти игры по правилам, он всегда соблюдал правила, а они не соблюдали. Он всю жизнь, как ребенок, соблюдал правила. Уходил от жен в одних брюках, все оставляя, библиотеки, квартиры, деньги. Моя единственная заслуга, может быть, в том, что я поняла: ему хочется быть маленьким, слабым, хочется быть ребенком. Он обожал быть таким со мной. Ему не надо было передо мной выпендриваться. Он перестал стесняться со мной, поняв, что я тот человек, который это в нем любит, и я дам ему последние годы пожить так, как он хочет, не отягощенным лишними обязанностями. Может, поэтому я не хотела ребенка, что он был моим ребенком. В первые годы он мне говорил: ты мещанка. Я понимала, что я, девочка из мещанской семьи, провинциальная дурочка, не могу быть ему адекватной. Но в конце жизни, года за полтора, он сказал: знаешь, я понял, что лучше этого ничего нет, вот ты и вот я, и что-то там происходит за окном, а мы все равно вместе.