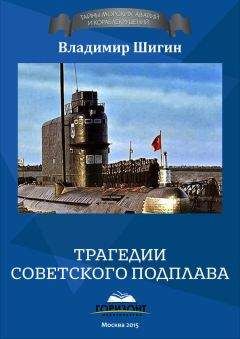Семен Резник - Владимир Ковалевский: трагедия нигилиста
Супруги действительно часто мечтали о будущем, когда они по-настоящему разбогатеют и смогут употребить свои миллионы на процветание науки и другие благородные дела, даже на счастье всего человечества. Литвинова полагала, что в этих утопических мечтах была большая доля искренности.
5В начале октября 1878 года состоялось наконец долгожданное «почкование».
«Девочка родилась, по крайней мере, на 3 недели позже срока и поэтому ужасно велика, — сообщил молодой папаша брату. — Все сошло, по-видимому, благополучно, но продолжающееся кровотечение заставило подозревать, нет ли второй placent'ы (первая вышла с ребенком); Софу опять стали терзать, и нашли вторую плаценту. Очевидно, ученые женщины начинают разводить новую породу biplacentalia52 с 10-месячной беременностью!!! Хорошая перспектива, — шутил счастливый отец. — Это первый опыт ученых барынь und wir sind hoch gespannt auf Resultate53». И, переходя к новорожденной, заключал: «Сеle va sans dire54, что уже на другой день своей жизни она стала обнаруживать разнообразные таланты».
Радость Владимира Онуфриевича приумножалась сознанием, что дочери не придется мыкаться всю жизнь и заботиться о куске хлеба, как с ранней молодости приходилось ему.
Строительство продолжало подвигаться вперед, и, хотя возникали трудности то с поставкой кирпича, то с добыванием новых залоговых сумм, Ковалевский чувствовал себя уверенно. Узнав о том, что брат уезжает в заграничную командировку, он выражал готовность выслать ему 600 — 700 рублей, ибо такую «ничтожную», по его теперешним понятиям, сумму «легко мог отделить от проходящих через руки при постройке денег».
Александр Онуфриевич этой поддержки не принял, но Владимир при любом случае готов был «отделить» значительную часть от «проходящих через руки денег» — и не только для себя или самых близких людей. «Ковалевские охотно помогали нуждающимся, — свидетельствовала Литвинова. — Многие были уверены, что они страшно богаты. Он же, часто отдавая деньги, приготовленные на уплату процентов, ставил себя в затруднительное положение и тер себе лоб, придумывая, как бы вывернуться». В декабре 1878 года Ковалевский писал брату, что «осталось еще месяцев семь этой каторги, и тогда я дам себя выпороть, если опять лично возьмусь за такое дело».
Однажды, весной 1879 года, на вечере у Жакларов Ковалевские познакомились с молодым ученым, индусом, приезжавшим в Петербург читать в университете лекции по санскриту. Индус очень понравился всем и особенно Владимиру Онуфриевичу. Со смешанным чувством зависти и удовольствия наблюдал он за человеком, для которого «вопросы его науки составляют, по-видимому, самое главное в жизни».
«Конечно, я теперь сильно отстал, — тревожился Ковалевский, — и главное, как-то мозги перекристаллизовались на другое, но я надеюсь, что при работе все опять устроится по-старому».
В течение лета тон его писем становился все более озабоченным и тревожным. Внутреннее устройство бань оказалось слишком сложным, а кредитное общество выдало только часть ссуды. «Хлопот и забот так много, а кроме того, все эти дела до того отвлекают от научных интересов, что мы часто с Софою горько скорбим, что не удовлетворились имевшимися у нас крохами и пустились в дело». Это он писал 15 августа, когда еще имел надежду открыть бани в конце сентября.
Но подошел и прошел октябрь, а бани все еще не были готовы. Деньги вышли полностью, кредиторы наседали, расплачиваться с ними было нечем. Владимир Онуфриевич почти перестал писать Александру, но тот издали чувствовал, в каком тяжелом положении находится брат.
«Что-то ты, дорогой дружок, поделываешь в это время? Ты как-то никогда ничего не пишешь о своей внутренней жизни; весь ты погряз в эти постройки и дела. Что бы ты наделал, если бы вся эта энергия пошла на палеонтологию? Я не читал статьи Марша, который, говорят, проследил полную генеалогию лошади, найдя чуть ли не семь или 8 последовательных предков. Я помню, ты как-то говорил, что возможно надеяться на нечто подобное для многих домашних животных и даже самого человека». Александр советовал продать бани и постройку в 9-й линии, хотя бы и «с потерей чего-нибудь», чтобы только поскорее Владимир вернулся к науке. «Я не буду спокоен, покуда ты опять не возьмешься за палеонтологию; я уверен, что на этом поприще ты мог бы сделать очень много и был бы и счастливым и вполне удовлетворенным человеком, т[ак] к[ак] было бы (сердечное) задушевное дело, которое наверное бы удавалось».
Но, увы, продать было уже невозможно. Поздно было продавать! Ибо никто не дал бы суммы, равной накопившемуся долгу. Софья Васильевна постаралась представить Александру Онуфриевичу «ясное очертание общего положения всего нашего имущества», и письмо ее устрашает обилием шестизначных цифр. Только частных долгов у супругов набралось на сто тысяч рублей! А банковские долги! А проценты!.. Правда, в итоге всех сложных подсчетов оказывалось, что остается «до 6000 чистого дохода, не считая ежегодного погашения в 6000». Но этот итог, по словам Софьи Васильевны, представлял лишь надежды; она отдавала себе отчет в возможности гораздо худшего исхода. Но, судя по ее письму, она держалась мужественно.
А Владимир Онуфриевич был близок к отчаянию.
«Каким образом мы могли пойти на такую огромную постройку, я и сам не могу дать себе отчет, это было какое-то безумное мечтание, что всякая постройка окупится и даст доход [...]. Вообще, вернувшись из-за границы, мне следовало дать отсечь себе руку, прежде чем решиться подписать хоть один вексель и вообще взяться за дела, но это случилось все как-то так фатально, что теперь я и понять не могу [...]. Засела нелепая мысль — вот обеспечу себя материально и затем примусь на свободе за научную работу. А это все пустяки, надо было перебиваться хоть самым бедным образом, но именно научной работой, а не оставлять занятий [...]. Ты спрашиваешь о внутренней моей жизни, но она поглощена всем этим, и об ней нечего говорить».
6Брат, как мог, подбадривал Владимира Онуфриевича, пытался употребить свои связи для устройства его научной карьеры.
В Московском университете подходил к концу срок службы профессора Григория Ефимовича Щуровского — одного из старейших и заслуженных ученых России.
С Щуровским Владимира Онуфриевича связывали давние и, в сущности, самые добрые отношения. Еще в конце 1874 года по приглашению Щуровского Владимир Онуфриевич ездил в Москву на годичное собрание Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии — не столько для того, чтобы принять участие в заседании, сколько прозондировать почву: может ли он рассчитывать на доцентуру в Московском университете? Его тогда приняли «сочувственно и мило», особенное внимание уделял ему сам Щуровский. Однако надежды на доцентуру рассеялись. Ибо оказалось, что уже пять лет при геологическом музее университета состоял некто Милашевич, «который все время пилил какие-то кораллы и все ничего не выпилил», но тем не менее еще годом раньше его послали за границу — подготовиться к занятию кафедры геологии, чтобы по истечении срока службы Щуровского заменить его.