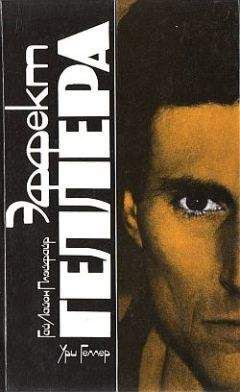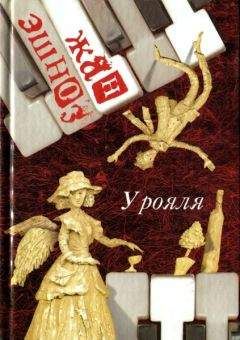Геннадий Сосонко - Мои показания
В его мировосприятии это было долгом (ключевой термин для понимания сущности Эйве) и правильно во всех смыслах: для Тим-мана, для шахмат, для Голландии. Последнее слово не было для Эйве пустым звуком. Дочери вспоминают, что видели его плачущим единственный раз в жизни — 15 мая 1940 года: «Мы еще не ушли в школу — отец сидел в кресле и его брил парикмахер, который обычно приходил к нему по утрам. Радио было включено, и отец услышал сообщение о капитуляции Голландии».
Он никогда не ходил в музеи и почти ничего не читал - для этого У него просто не было времени. Однажды, взяв с собой в отпуск несколько пустых книжонок, он быстро прочел их, а потом всё оставшееся время маялся от безделья. Он обладал абсолютным слухом, любил классическую музыку — Бетховена, Шопена, но в филармонию не ходил - ведь для этого нужно время. Музыка проходила у него как бы на заднем плане, сопровождая какое-либо другое занятие. Голландский мастер Ханс Баумейстер, пианист-любитель, живший под Утрехтом, вспоминает, как Эйве приехал к нему однажды на домашний концерт: «Уже при исполнении первой вещи он листал расписание поездов, чтобы уточнить время последнего на Амстердам...»
Каролин Эйве: «Он всегда шел спать в половину одиннадцатого и перед сном слушал по радио последние известия. Больше всего на свете он не любил беспорядок. Он всё планировал: отпуск, свободное время. Он и для мамы составлял схемы, когда и как должно быть что-то сделано. Всё должно было быть всегда в порядке, всё на своем месте. Он сердился, когда мы приносили плохие отметки из школы. И еще он сердился, когда он сидел и работал, а я под его окном играла с мальчишками в футбол»...
Характеризуя отца Яна Тиммана, профессора математики Рейна Тиммана, Эйве писал: «Я знал многих профессоров, но только редчайшие из них сочетали в себе глубокие профессиональные знания с такими превосходными качествами, как объективность, скромность и сдержанность». Это, конечно, о нем самом. То, что было присуще ему самому, и то, что он так ценил в людях: объективность, скромность и сдержанность.
Самокопание и самобичевание, присущие многим шахматистам, были ему совершенно незнакомы. Первая половина неудачно сложившегося для него матч-турнира на первенство мира проходила в Гааге. Возвращаясь вечером домой в Амстердам, он располагался обычно на заднем сиденье машины с Карелом ван ден Бергом, помогавшим ему в том турнире. Проанализировав позицию на карманных шахматах, он объявлял: «Нужно сдаваться - позиция проигранная». И тут же начинал говорить о других вешах так, как будто шахмат не существует вовсе.
Вспоминает Смыслов: «Был Макс симпатичный, и, хотя в наших встречах успех ему не всегда сопутствовал, а неудачи, наоборот, чаше случались, удивлялся я всегда его абсолютно корректному поведению после партии и во время разбора ее. В Гронингене в 1946 году играл Макс прекрасно, но посчастливилось Ботвиннику очень — нашел ничью в отложенной позиции в партии с Эйве, хотя казалось всем: проигрывает он. Мы обедали тогда вместе, и Михаил Моисеевич всё анализировал позицию на карманных шахматах, нервничал очень...»
Ботвинник утверждал, что был период, когда его отношения с Эйве носили очень острый характер. Мне это трудно себе представить. Вероятно, и сам Эйве удивился бы, узнав об этом: у него с Ботвинником; во всяком случае, острых отношений не было. Его друг и секундант Ганс Кмох писал, что Эйве был более всего счастлив, когда мог доставить кому-нибудь удовольствие.
Тимману было неполных двенадцать лет, когда он сыграл первую партию с Эйве. Было это в сеансе одновременной игры в Гааге. Партия — был разыгран вариант «каменная стена» — получилась интересной и закончилась вничью. Но любопытно другое. «Я сидел рядом с моим старшим братом Тоном, который получил преимущество в дебюте и предложил ничью, — вспоминает Ян. — Эйве улыбнулся и сказал: «Нет, у тебя не скоро еще будет шанс сыграть со мной». И Тон в конце концов выиграл. Типичный Эйве: дружеский, ободряющий молодого жест, когда результат партии неважен, он как бы отходит на второй план».
Он говорил на основных европейских языках. Самым сильным был немецкий — международный язык шахматистов до Второй мировой войны. Уже в пожилом возрасте он стал брать уроки испанского; помню спич Эйве по-испански на открытии Олимпиады в Буэнос-Айресе в 1978 году. Труднее было с русским. Его выступление по-русски на закрытии турнира в Гронингене (1946) вызвало шутку Котова: «Этого не смог бы понять даже голландец!» Хотя он в дальнейшем неоднократно бывал в Советском Союзе и даже пытался учить язык, его познания ограничивались отдельными фразами. Я слышал несколько таких на закрытии межзонального турнира в Биле в 1976 году. С их помощью и с вкраплениями английских и немецких слов Эйве вел полумимический разговор с Геллером и Петросяном. Но когда те, обрадованные возможностью беседы без помощи переводчика, превышали допустимую скорость речи - обычная ошибка всех, говорящих только на одном языке, — Профессор лишь восклицал: «Да! Да!» — и кивал приветливо, что бы те ни говорили.
В молодые годы он регулярно по воскресеньям играл в футбол, боксировал, плавал. Элс Эйве: «Отец довольно часто играл в настольный теннис, предпочитая оборонительную тактику. Он нередко вытягивал труднейшие мячи, побеждая игроков, превосходящих его по силе. Он стал учиться вождению самолета, и мы, дети, замирали от восторга, когда отец описывал круги, пролетая над нашим Домом. К счастью, ему не удалось сдать последнего экзамена, и он так и не получил разрешения на вождение самолета, так как в этом случае он, без сомнения, был бы мобилизован, а почти все летчики погибли в первый же день войны».
Когда у Эйве спросили о самом счастливом событии в жизни, он ответил: «День в 1964 году, когда я стал профессором». Слова эти произвели фурор в шахматном мире: как? Чемпион мира оценивает какой-то другой факт как более значительный? Факт, сообщающийся в любой шахматной энциклопедии разве что короткой строкой. Тем не менее, я думаю, Эйве сказал то, что думал: чувство кокетства ему было чуждо. И дело тут не в чудачестве или в неверно понятых масштабах сделанного. Примеры Ньютона, считавшего величайшим созданием своей жизни «Замечания на книгу пророка Даниила», или Вагнера, ценившего свои стихи выше, чем свою музыку, здесь неуместны. Он прекрасно понимал, что чемпион мира по шахматам -один, а профессоров математики в мире — тысячи. Признание это говорит в первую очередь о том, какое место он отводил шахматам в шкале человеческих ценностей, в шкале, размеченной им самим.
Слова Ласкера, сказанные ровно век назад, определяют отношение Эйве к шахматному профессионализму: «К таким шатким профессиям принадлежит турнирная шахматная игра. Едва ли можно назвать ее в полном смысле слова профессией, ибо она не приносит стабильного заработка для семьи. Но... она приносит известность. А бедность легче переносится, если чувствуешь свою незаурядность. Известность можно использовать также в деловых сношениях, она дает некий шанс для выбора других занятий, типа работы страхового агента или учителя, или дает возможность получить рекомендацию на получение легкой работы со сносным жалованьем».