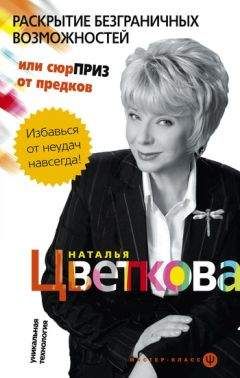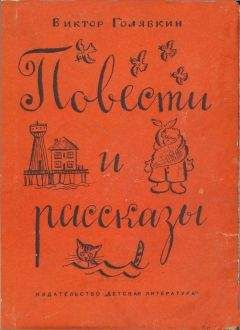Борис Панкин - Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах
Кстати, этот трагикомичский эпизод на заседании высшего партийного органа, о котором я тут же рассказал, конечно, и Трифонову, и Любимову, как-то еще больше сблизил нас, «товарищей по несчастью», мы стали чаще встречаться, перезваниваться, обсуждать развитие ситуации, обмениваться новостями.
Трифонов в ЦК не был вхож, а у Любимова там были доброжелатели, в том числе и помощник Брежнева Анатолий Черняев, наш с Ю. П. общий друг, который тоже помогал разруливать ситуацию. Трифонов, который писателем быть не прекращал ни на минуту, мотал, по моим наблюдениям, наши рассказы на несуществующий ус в предвкушении того, что они еще могут ему пригодиться в работе за письменным столом.
О Трифонове говорили, что он неразговорчив, едва ли не косноязычен, а мне казалось: это все оттого, что так много имеет он что сказать. И каждый раз, прежде чем открыть рот, думает: а стоит ли? Нет, не из недостатка уважения к собеседнику, а оттого, что мысль изреченная есть ложь. Пока выведешь на язык то, что внутри, половину растеряешь. Не лучше ли просто сесть за письменный стол и выложить, что у тебя в голове…
Был, правда, один случай, по поводу которого Юрий Валентинович разговорился и показал себя прекрасным рассказчиком. Дело было у него на даче, куда он пригласил Любимова.
– Сидели пили, – рассказывал он мне, явно не по делу употребив этот глагол. – Обедали, – сам же и уточнил. А тут целое паломничество. Работяги, которые крышу чинили, явились.
«Валентиныч, дай на поллитра».
Дал.
«А нам закусить нечем».
Дал им кусок колбасы. Хлеба с сыром. Ушли. Через полчаса еще пара приходит. Говорят, что из местной дачной конторы. С претезиями по поводу двух, якобы незаконно срубленных берез. Намек такой – либо на поллитру сейчас же отслюни, либо в суд подадим.
Базарят, а сами все на Любимова посматривают.
«Это кто ж, этот седой? Где-то мы его видели».
«На Мавзолее», – невозмутимо сообщил Юрий Петрович
Обалдели. Второй от растерянности спрашивает: «А чего ж ты там сейчас не стоишь?»
«Так парада же нету», – серьезно отвечает Любимов.
Помялись мужики и отправились восвояи, забыв и об охране окружающей среды, и о поллитре.
Мы вспоминали с Юрием Петровичем об ушедшем уже Трифонове в Стокгольме, когда я, тогда посол СССР в Швеции, пригласил его, все еще опального, на прием, посвященный очередной годовщине Октября. И в той праздничной суете и суматохе Ю. В. вдруг привиделся мне как живой, таким, каким приходил ко мне на Большую Бронную, в ВААП. В твидовом пиджаке, в синтетической рубашке без галстука, но с застегнутым воротом, в круглых роговых очках, с неторопливым «В-о-от» на полных негритянских губах.
…Таков был избранный – вернее, подсказанный ему его натурой, особенностью таланта – угол зрения, что при всей вызывающей остроте, разоблачительной силе его вещей к эзопову языку, «эжоповщине», как тогда говорили, ему не приходилось прибегать. Он говорил все, что хотел сказать, и так, как он этого хотел. И цензура, как правило, спохватывалась уже post factum.
Сдается, что и сегодня хрестоматийное «пятикнижие» работавшего в подцензурных условиях Юрия Трифонова («Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набережной»), как и последовавшие за ним повести и романы, говорят о том времени не меньше, чем иные, в том числе и самые талантливые произведения, родившиеся в условиях вольного слова на Западе.
Я уж не говорю о «чернухе», которая разлилась по страницам книг, журналов, газетных полос, когда, в начале девяностых, она стала не только дозволенной, но и желанной в глазах властей предержащих.
Четвертое измерение
До тех пор, когда за несколько лет до ее кончины мы стали с Мариэттой Шагинян, как мне показалось, друзьями, была у меня только одна возможность встретиться с нею, вернее, наблюдать ее вблизи.
Это случилось теперь уж чуть ли не полвека назад, на летучке в «Комсомольской правде». В разгар набиравшей обороты дискуссии к вольготно раскинувшемуся в своем кресле главному редактору подошла его секретарша и что-то прошептала.
Может быть, впечатление, о котором я сейчас хочу сказать, родилось позднее, под воздействием тут же последовавших событий, но мнится, что так оно и было: наш главный, Дмитрий Петрович Горюнов, вдруг сам стал похож на ученика, только что получившего двойку.
Он покраснел, в каком-то недоумении обвел взглядом зал и, махнув в отчаянии рукой, сказал:
– Пусть заходит.
Но, уже не дожидаясь его согласия, в зал не вошло, а влетело со скоростью шаровой молнии некое балахонисто одетое, с выдвинутой вперед правой рукой с чем-то твердым и черным в ней существо, которое остановилось около редактора, протянуло ему раскрытый экземпляр «Комсомолки», произнесло короткую, из одних восклицаний, речь и покатилось дальше, вдоль нашего длинного, овалом, стола, оккупированного, согласно неписаной традиции, исключительно членами редколлегии. С правой рукой, все так же выставленной вперед.
Этим способом Мариэтта Шагинян, а это была она, высказала свое негодование по поводу только что опубликованной в «Комсомолке» статьи об одном армянском просветителе и теперь ожидала реакции, которую она могла воспринять лишь с помощью микрофона у нее в руках.
Когда минут через пятнадцать она с видом победителя покинула зал наших заседаний, атмосфера в нем напоминала тот момент в природе, когда гроза уже отгромыхала, ливень кончился, но тучи, медленно расползаясь, еще скрывают солнце.
Ни тогда, ни позднее я не относил Мариэтту Шагинян к числу своих кумиров, хотя рассудком отдавал должное ее бросавшейся в глаза неутомимости не по возрасту, который на моей памяти всегда был почтенен, неукротимому темпераменту и множеству ею написанного, что вызывало в представлении образы великих тружеников пера позапрошлого века.
Никогда не перечитывал, пройдя в университете, «Гидроцентраль» или «Месс-Менд». И только появившиеся в «Новом мире» главы ее книги «Человек и время», а там и сама книга стали для меня открытием. О чем я и поведал в вышедшем в конце семидесятых сборнике литературно-критических очерков «Строгая литература».
Услышать в телефонной трубке высокий, даже пронзительный женский голос, уведомивший меня, что он принадлежит Мариэтте Сергеевне Шагинян, которая хотела бы увидеться с Борисом Дмитриевичем Панкиным, было для меня, наверное, таким же шоком, как некогда для Горюнова ее появление на редколлегии «Комсомолки». С близким к этому ощущением я поехал к ней домой.
Эта и последующие встречи, всего, кажется, четыре, были чудом соприкосновения с неким неведомым, уже почти по ту сторону черты стоящим миром. С существом, которое, однако, словно бы и не замечает этой черты, что бы за ней ни ожидало.
![Дарья Ардеева - Запретные территории [СИ]](/uploads/posts/books/77022/77022.jpg)