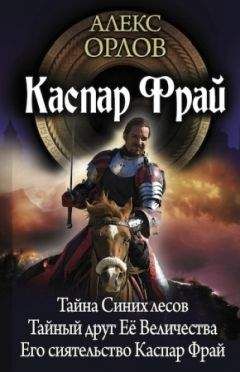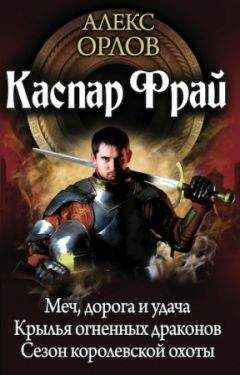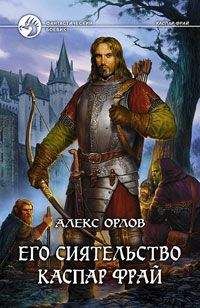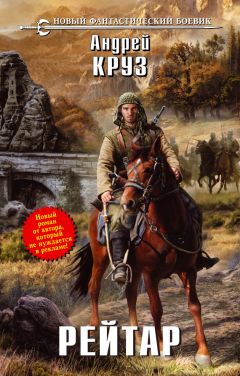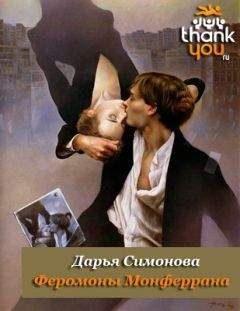Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы
– Молчи, раб неключимый{263}! – вдруг воскликнул Петруха-прачка. – Ты не пан-нимаешь… Он у меня ноне ночуит…
Хозяйка и Алексей Иваныч стояли в это время друг перед другом с рюмками в руках.
– Пей! – как бы приказывал учитель. – Я ничего не говорю…. – Он сделал при этом полуоборот к Илюше, за которым скрывалась востроносенькая девица с бледным лицом, без платка на голове и в ваточной кацавейке. – Так и ты пей, и не толкуй! Понимаешь?
– Ды, Ликсей Иваныч! – заговорила с плачем хозяйка. – Ды уж, кажется, я ему… Кажется, что ни в чем…
– П-пей!.. Илюня! Пропусти-ка Грушу-то к нам. Иди, погрейся ступай.
Груша, как бы простреленная глазами всей компании, шатаясь и опустивши голову, подошла к хозяйке, которая с громким плачем принялась целовать ее и приговаривать что-то такое о горьких участях, о погибших головушках…
– Ну-те-кось! – подскочил к Груше хозяин со своим подносом. – Ну-те-ко! Плакать-то подождите. Еще наплачетесь.
– Наплакаться всегда можно! – согласным хором вторили гости.
Происходило что-то странное в этом, недавно еще так дико бушевавшем, обществе. Настолько деликатно, насколько можно было, все эти люди старались не смотреть в опущенные глаза Груши, и только одна хозяйка крепко прижала ее лицо к своей груди и плакала. Тихий, всепрощающий ангел, очевидно, распростерся над этими двумя головами. Было тихое, тихое молчание, сквозь которое изредка пробивался чей-нибудь шепот, не только что не нарушавший этого молчания, а как бы еще более увеличивавший его…
Учитель между тем увидел меня и подошел ко мне.
– Ты тоже здесь? – спрашивал он меня.
– Как видишь. Ты где пропадал?
– Как где пропадал? Будто не знаешь? – с унылым сарказмом спрашивал он. – Хотел было в приятном месте – не трое, а хоть бы одни сени выстроить…
– Ну и выстроил?
– Выстроил… Ты что думаешь обо всей этой истории?
– Да ничего не думаю. Ведь ты помирился… Опять не буду же я тебе в пятисотый раз, да к тому же и здесь, развивать мои теории относительно свободной воли и т. д. и т. д.
– Дурак ты, мой милый!.. – почествовал меня учитель.
– Это я и без тебя знаю.
Нам с ним не о чем было больше растолковывать. Он мне и я ему давно уже были уяснены до конца концов.
– Ну-те-кось! – перебил нашу беседу хозяин. – Будет раздобары-то раздобарывать.
– Ах-х, Мироша! – заговорил учитель, выпивши рюмку, – где бы это гитару нам теперь раздобыть – а?
– Гитару? Господи! Да, в один сикунт… Дядя Микит! бежи наверх к приказному. В гости он меня просил. Скажи, чтобы, мол, беспременно с гитарой.
Скоро пришла гитара, вместе с приказным, одетым в истертый татарский халат. Вручивши гитару учителю и выпивши сразу по третьей, приказный и прачка-Петруха принялись друг друга учить политике и щеголять горделивыми позами и господскими разговорами.
Скоро мастерские, а главное – близкие всем гостям рулады учителя оковали внимание общества. Он, то под непостижимо-бойкий и умный перебор «Барыни»{264}, громким, как бы командующим голосом вызывал плясать красный фартук с молодым мастеровым, то вместе с красным фартуком, или, лучше сказать, со звонким дискантом красного фартука, соединял горловой тенор дяди Микиты.
Старушка Марья Петровна, оказавшаяся староверкой, вспомнила с учителем свою далекую молодость, спевши с ним и с его гитарой: «Я птичкой быть желаю»{265} и «Незабудочка-цветочек»{266}.
С раскрасневшимися маленькими щечками, старушка лезла к учителю целоваться и тоном трагической актрисы кричала ему:
– Прости, прости! Слышь ты, голубь, прости! Понимаешь?
– До слова понимаю, Марья Петровна!.. – экстатическим криком отзывался учитель, не переставая импровизировать на гитаре, – до слова понимаю, друг ты мой великий…
– Ну, а коль понимаешь, – кричала старуха, – чего же не делаешь? Сын! Сыночек мой! Милый! Чего же не сделаешь? Сынок мой! сделай! Я тебе за это сейчас ручки поцелую, в ножки тебе, сынок, поклонюсь. Сделай! Видишь – стыдится…
Старуха упала в ноги учителю и, действительно, принялась целовать его руки.
– Спасибо тебе, старый человек! – тоже плача, обнимал ее учитель, – надоумила ты меня… Будь же ты благословенна из всех тех жен, каких только я знаю…
Бойкой такой, маленькой пружинкой вскочила вдруг с пола старушка Марья Петровна, бросилась к Груше и к хозяйке, которые все еще продолжали сидеть, обнявшись, схватила их своими костлявыми ручонками, подтащила к учителю, и тогда все эти четыре головы обнялись крепко и горько заплакали…
Тишина стояла в комнате поражающая. Приказный с прачкой-Петрухой, продолжая свой спор, кинули было несколько слов, но их сейчас же остановили дружные, хотя и тихие голоса:
– Тише вы, черти!
Оба спорщика, в лад всей комнате, замолчали, и только один несмысль-наследник, на самой средине горницы, заливался радостным детским смехом и безуспешно старался подняться на невыносливые ножки…
Что до меня, я, лежа на сундуке, с разымающими слезами, завидовал и этим взрослым людям, так искренно простившим друг друга, и этому ребенку, так искренно радовавшемуся, – завидовал и в то же время желал им всякого счастья…
«Раститеся, множитеся и наполняйте землю», – невольно шевелилось на моих губах, а сердце так и подталкивало меня сбросить с себя тулуп, подбежать к плакавшей группе, обняться с ней вместе и плакать; но я чувствовал, что в голове моей сидел кто-то, с гордым, одутло-насмешливым лицом, и говорил мне:
– Ты куда? Зачем тебе к ним? Ты ни любить так не умеешь, как они, ни прощать… Лежи, – тебе и плакать-то стыдно!..
Я еще крепче завернул в тулуп голову, потому что, действительно, стыдился моих слез, которые совсем было задушили меня…
– Ну, ежели так, так Господь с вами, счастливые люди! – пробормотал я – и уснул в какой-то отчаянной тоске по ком-то и по чем-то…
Всю ночь снилось мне обещанное царство благодати{267}, тихое царство, без слез и скорбей, разрушающих жизнь. Я был бы совершенно счастлив, если бы мой проклятый мозг не имел обыкновения, даже и во сне, выпрядать какие-то отвратительно-шероховатые нити, от щупанья которых все существо мое нервно вздрагивало и, против воли озлобляясь, говорило:
– Но ведь я сплю… Вот и тулуп, которым я накрыт, – следовательно, все это я вижу во сне…
Это следовательно губит и сны, и действительность…
Серое утро било в окна, когда я, почему-то необыкновенно испуганно, выглянул одним глазом из-под тулупа, покрывавшего меня. За стеной шипела пила.
* * *Удары тяжелого молота обо что-то железное невыносимо больно терзали мой слух; топилась маленькая железная печь, наполнявшая комнату удушливым жаром. Красные уголья, которые виднелись в ней, явственно изображали донельзя насмешливые над кем-то улыбки…