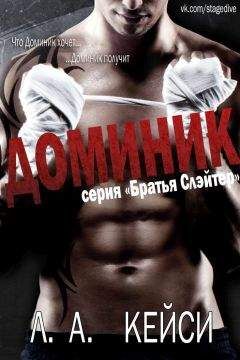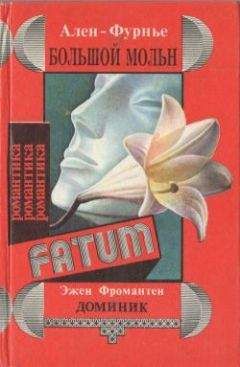Борис Тарасов - Чаадаев
Вскоре после возвращения Пушкина из Болдина печатается «Борис Годунов». Экземпляр трагедии с дарственной надписью он незамедлительно по получении ее из типографии, в начале 1831 года, посылает Петру Яковлевичу. «Вот, мой друг, то из моих произведений, которое я люблю больше всего. Вы его прочтете, так как оно написано мною, и скажете свое мнение о нем. А пока обнимаю вас и поздравляю с Новым годом». Неизвестен отзыв Чаадаева об этой пьесе, но само ее содержание и авторское признание в надписи служит своеобразным ответом Пушкина на мысли первого философического письма, которое они должны были обсуждать весной 1831 года на фоне европейских волнений и польского восстания.
Поэт раскрывал перед другом собирательные, защитные и охранительные особенности русской государственности, что нашло отражение во фрагментарной статье Петра Яковлевича о польском восстании, называемом им «безумным предприятием» и: рассматриваемом в связи с событиями далекого прошлого. Автор отмечает, что Украина, Белоруссия и Литва, населенные в основном русскими, испытывали в период владычества Польши угнетение национальной культуры и православной религии, осуществлявшееся с помощью католического духовенства. И напротив: хотя Польша была присоединена к России с помощью оружия, она никогда не подвергалась угнетению и развивала собственную культуру, в то время как поляки отошедших к Австрии и Германии областей оказались онемеченными. Могущественная держава, какой является Россия, включающая в свой состав много славянских племен, способна, по мнению Чаадаева, обеспечить свободное развитие Польши, внешняя же ее независимость превратит небольшое государство в яблоко раздора для европейских стран и подвергнет его опасности исчезновения. «Против отторжения нынешнего Царства Польского, — продолжает автор, — с целью превращения его в ядро новой независимой Польши, даже и при содействии этому со стороны нескольких европейских государств, стал бы возражать не один просвещенный поляк, в убеждении, что благополучие народов может найти свое полное выражение лишь в составе больших политических тел, и что, в частности, народ польский, славянский по племени, должен разделять судьбы братского народа, который способен внести в жизнь обоих народов так много силы и благоденствия… В соединении с этим большим целым поляки не только не отрекутся от своей национальности, но таким образом они еще более укрепят ее, тогда как в разъединении они неизбежно попадут под влияние немцев, поглощающее воздействие которых значительная часть западных славян уже на самих себе испытала…»
В этих столь необычных для Чаадаева мыслях отражено не только влияние Пушкина, но и его собственные воспоминания об Отечественной войне и заграничном походе, а также поиск при созерцании «всеобщего бедствия» Европы охранительного начала для предотвращения «глупости одного человека» и обеспечения «прогресса вселенского разума». Таким началом его (воплощение в Священном Союзе Александра I ранее с одобрением было встречено Петром Яковлевичем, о чем говорят отметки его книг) и кажется ему сейчас «большое политическое тело» России, способной выполнять мирную миссию и начинающей обретать значимость в его концепциях.
Разочарованный поворотом событий на Западе, он все-таки не теряет утопической надежды на то, что «разум образумится». «Как люди ни глупы, — уверяет он Пушкина после подавления польского восстания, — они не станут раздирать друг друга, как звери: последний поток крови пролит, и теперь, в тот час, когда я пишу вам, источник ее, слава Богу, иссяк.
Спора нет, бури и бедствия еще грозят нам, но уже не из слез народов возникнут те блага, которые им суждено получить; отныне будут лишь случайные войны, несколько бессмысленных и смешных войн, чтобы отбить окончательно у людей охоту к разрушениям и убийствам…»
Пушкин уже давно расстался с иллюзиями «вечного мира». Вообще глобальные политические пророчества не в его вкусе. Опыт историка и сердцеведа подсказывает ему, что от будущего можно ожидать всего и надежда друга на близость всеблагого исхода обманчива. Это весьма угнетает автора философических писем, как свидетельствуют его послания к Пушкину весной и осенью 1831 года: «Это несчастье, мой друг, что нам не пришлось в жизни сойтись ближе с вами… при одной возможности сомнения в этом (в понимании. — Б. Т.) у меня падает из рук перо».
Хорошо представляя себе богатство и силу личности Пушкина, Чаадаев стремится к большей близости с ним, пытается глубже проникнуть в его духовное своеобразие, найти в его размышлениях точки соприкосновения с собственными думами: «Говорите мне обо всем, что вам вздумается: все, что идет от вас, будет мне интересно. Нам надо только разойтись; я уверен, что мы найдем тысячу вещей сказать друг другу…» Он высказывает поэту свое чаяние: «О, как желал бы я иметь власть вызвать сразу все силы вашего поэтического существа! Как желал бы я извлечь из него, уже теперь, все то, что, как я знаю, скрывается в нем, дабы и вы дали нам услышать когда-нибудь одну из тех песней, какие требует век. Как тогда все, что теперь бесследно для вашего ума проходит перед вами, тотчас поразило бы вас! Как все приняло бы новый облик в ваших глазах!..»
В сокровенных местах чаадаевских размышлений о «песнях века», предвещающих, по его мнению, грядущее «земное царство», в нем просыпаются былые учительные интонации: «Куча старых мыслей, привычек-условностей, приличий» мешают поэту видеть «всеобщее столкновение всех начал человеческой природы», «великий переворот в вещах», когда «целый мир погибает». Не обладающий же «предчувствием нового мира», сменяющего старый, должен ужаснуться надвигающейся гибели. «Неужели и у вас не найдется мысли, чувства, обращенных к этому?» И Чаадаев не теряет надежды на возможное соединение «мысли» его философии и «тела» пушкинской поэзии, передает уезжающему в мае 1831 года в Петербург Пушкину шестое и седьмое философические письма об историческом процессе — в том числе и для попытки напечатать в северной столице.
Уже через месяц Петр Яковлевич нетерпеливо интересуется судьбой своей рукописи, добавляя: «Я продолжаю думать, что нам суждено было идти вместе, и что из этого воспоследовало бы нечто полезное и для нас и для других. Эти мысли пришли мне снова в голову, с тех пор, как я бываю иногда, угадайте где? — в Английском клубе. Вы мне говорили, что вам пришлось бывать там; я бы вас встречал там, в этом прекрасном помещении, среди этих греческих колоннад, в тени этих прекрасных деревьев; сила излияния наших умов не замедлила бы сама собой проявиться. Мне нередко приходилось испытывать нечто подобное…»