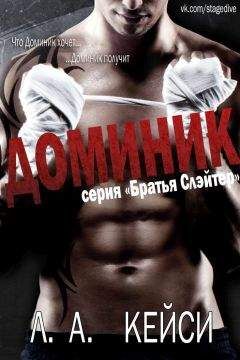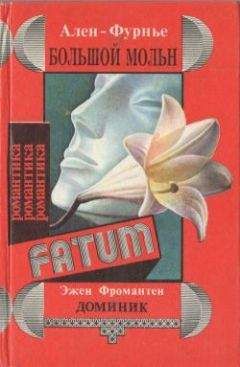Борис Тарасов - Чаадаев
С большим вниманием следит Пушкин и за европейскими событиями. Волны французской революции 1830 года вызвали возмущение в Бельгии, Швейцарии, Италии, а за несколько дней до отъезда поэта из Болдина вспыхнуло восстание в Варшаве, вслед за которым в начале 1831 года Польский сейм объявил о низложении династии Романовых и об отделении своей страны от России. Пушкин осуждал неосуществившееся намерение царя вмешаться в европейские события, считая их «домашним» делом самих народов Запада.
Но и русско-польские отношения Пушкин, хорошо изучивший эпоху самозванцев, считал «домашним» спором еще с XVI века, когда Речь Посполитая владела исконными русскими землями и связанными с Москвой языком и культурой народами. В XVII веке Русское государство находилось в большой опасности, избежать которой помогло земское ополчение, выгнавшее захватчиков в 1612 году из Кремля, подожженного отступавшими. «Для нас мятеж Польши, — писал он Вяземскому, — есть дело семейственное, старинная наследственная распря, мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей».
Пушкина раздражало вмешательство в русско-польские военные действия, обусловленные «наследственной распрей», членов французского парламента, призывавших к вооруженной поддержке восставших и их требований присоединить к Польше Украину до Днепра, включая Киев. В написанных в августе и сентябре 1831 года стихотворениях «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» поэт напоминает «мутителям палат», как он называет западных политиков, об истории России, которую «война, и мор, и бунт, и внешних бурь напор… беснуясь потрясали» и которая в минувшую войну своею кровью искупила «вольность, честь и мир» напавшей на нее Европы.
О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?..
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Напоминает поэт «народным витиям», а также участникам русско-польских военных действий и о традициях русских воинов, которые могут и должны служить гарантией добрых отношений:
В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.
Не все друзья Пушкина приняли благосклонно его патриотические стихи, а А. И. Тургенев и Вяземский осудили их. Среди же безусловных почитателей этих произведений политической лиры поэта неожиданно оказался Чаадаев. Вот что он пишет Пушкину в Петербург 18 сентября 1831 года: «Мой друг, никогда еще вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот, наконец, вы — национальный поэт; вы угадали, наконец, свое призвание. Не могу выразить вам того удовлетворения, которое вы заставили меня испытать. Мы поговорим об этом другой раз и подробно. Я не знаю, понимаете ли вы меня, как следует? Стихотворение к врагам России в особенности изумительно; это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране… Не все держатся здесь моего взгляда, это вы, вероятно, и сами подозреваете; но пусть их говорят, а мы пойдем вперед; когда угадал… малую часть той силы, которая нами движет, другой раз угадаешь ее… наверное всю. Мне хочется сказать: вот, наконец, явился наш Дант…»
Чем объяснить такую похвалу, вроде бы немыслимую в устах автора первого философического письма? Надо сказать, что еще при завершении всего цикла писем монолит философического единства стал в сознании Петра Яковлевича давать трещину. Июльская революция во Франции, после которой, по словам Маркса, «классовая борьба, практическая и теоретическая, принимает все более ярко выраженные и угрожающие формы», заставила Чаадаева писать в заключительном письме цикла о «груде искусственных потребностей, враждебных друг другу интересов, беспокойных забот, овладевших жизнью». Его, если так можно выразиться, консервативно-прогрессистские мысли вдохновлялись во многом атмосферой периода реставрации, когда после революционных волнений начала 20-х годов Европа ненадолго (а Петру Яковлевичу казалось, что навечно) вернулась к старым традициям, вроде бы гарантирующим новые перспективы мирного благоденствия. «Еще недавно, с год тому назад, — замечает он в упомянутом письме к Пушкину, — мир жил в полном спокойствии за свое настоящее, и будущее и в молчании проверял свое прошлое, поучаясь на нем. Ум возрождался в мире, человеческая память обновлялась, мнения сглаживались, страсть была подавлена, гнев не находил себе пищи, тщеславие находило себе удовлетворение в прекрасных трудах; все людские потребности ограничивались мало-помалу кругом умственной деятельности, и все интересы людей сводились мало-помалу к единственному интересу прогресса вселенского разума. Во мне это было верой, было легковерием бесконечным. В этом счастливом покое нагрянула глупость человека, одного из тех людей, которые бывают призваны, без их согласия, к управлению людскими делами. И мир, безопасность, будущее — все сразу обратилось в ничто. Подумайте только: не какое-либо из тех великих событий, которые ниспровергают царства и несут гибель народам, а нелепая глупость одного человека (Карла X. — Б. Т.) сделала все это! В вашем вихре вы не могли почувствовать этого, как я, это вполне понятно… Что до меня, у меня навертываются слезы на глазах, когда я вижу это необъятное злополучие старого, моего старого общества; это всеобщее бедствие, столь непредвиденно постигшее мою Европу, удвоило мое собственное бедствие…»
Кто-кто, а уж автор «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина», «Маленьких трагедий» и «Пиковой дамы» хорошо познал, к каким гибельным последствиям в вихре жизни может вести глупость или духовное несовершенство, злая воля или бесовское наваждение одного человека. Потому нельзя не признать беспочвенности в этом отношении упрека Чаадаева, несомненно, самого испытавшего в минуту философической растерянности воздействие исторических убеждений автора «Клеветникам России» и «Бородинской годовщины».
Вскоре после возвращения Пушкина из Болдина печатается «Борис Годунов». Экземпляр трагедии с дарственной надписью он незамедлительно по получении ее из типографии, в начале 1831 года, посылает Петру Яковлевичу. «Вот, мой друг, то из моих произведений, которое я люблю больше всего. Вы его прочтете, так как оно написано мною, и скажете свое мнение о нем. А пока обнимаю вас и поздравляю с Новым годом». Неизвестен отзыв Чаадаева об этой пьесе, но само ее содержание и авторское признание в надписи служит своеобразным ответом Пушкина на мысли первого философического письма, которое они должны были обсуждать весной 1831 года на фоне европейских волнений и польского восстания.