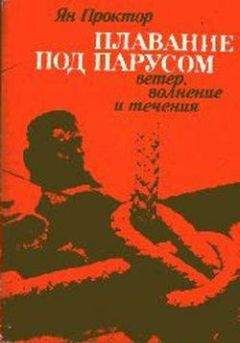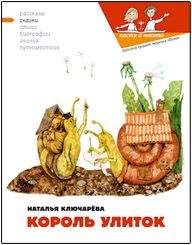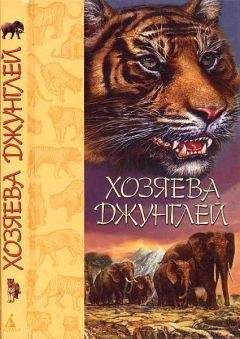Юрий Ветохин - Склонен к побегу
Однажды утром дежурный санитар шепнул мне: Сегодня вам будут вводить барбамил.
Я сразу потерял покой. Прошло уже около 4-х лет со дня моего ареста и КГБ до сих пор ничего не знало о том каким образом я очутился в Черном море на расстоянии 10 километров от берега. Я сочинил для КГБ две легенды и обе — малоправдоподобные. Для меня, не потерявшего надежду после выхода из тюрьмы снова повторить попытку побега за границу, было жизненно необходимо сохранить в секрете методы и технические приемы, с помощью которых я уже дважды обманул бдительность пограничников, незамеченным вошел ночью в море и уплыл от берега. Я боялся, потеряв над собой контроль после введения в организм наркотика, проговориться об этом.
Я принял меры предосторожности. По главным вопросам, по которым я боялся проболтаться, я придумал под ходящие ответы и весь день твердил эти ответы про себя чтобы выработать автоматическую реакцию: вопрос — ОТВЕТ. Мысленно я просил Бога помочь мне в этом.
Во второй половине дня меня вызвали в манипуляционную. Сперва медсестра ввела мне в руку сердечный допинг (чтобы я сразу не заснул от барбамила), а затем велела лечь на топчан. Нащупав вену на сгибе моей руки она воткнула в нее иглу большого шприца и ввела примерно половину содержимого. Потом, оставив иглу со шприцем торчать в моей руке, сказала санитару:
— Позовите, пожалуйста, Нину Абрамовну!
Нина Абрамовна вошла в манипуляционную, и закрыла за собой дверь.
— Что вы чувствуете, Юрий Александрович? — спросила она меня.
Хотя я чувствовал, что куда-то проваливаюсь, лечу, вот-вот потеряю сознание, я ответил, как задумал:
— Все в порядке.
— Добавьте еще! — скомандовала Нина Абрамовна сестре.
Больше я ничего не помню. Был какой-то разговор или нет — я не знаю. Санитар уверял меня, что я был как без памяти и не мог сказать ни слова. Очнулся я на койке в своей камере. Голова сильно болела, меня мутило. Когда я встал с койки, то меня шатало как пьяного. Болезненное состояние продолжалось еще два дня. На третий день меня снова вызвали на барбамил.
Вначале все повторилось также, но потом пришла Бочковская и Нина Абрамовна и, наученные опытом, запретили сестре вводить мне больше половины шприца барбамила. Я остался в памяти и мог контролировать свои ответы.
— О чем вы беседуете с Муравьевым на каждой прогулке? — начала допрос Бочковская.
— О природе.
— Как это о природе?
— Вот так, мы оба любим русскую природу и говорим о ней.
Но я тоже люблю русскую природу! Вы сами видели, что у меня на столе в ординаторской круглый год живые цветы! Но я не говорю все время о своей любви к природе!
— А я — говорю. Я рассказываю Муравьеву на каких реках и озерах я ловил рыбу, в какие леса ходил за грибами. Как они выглядят утром, днем и вечером, на закате солнца.
Явно неудовлетворенная моим ответом Бочковская замолчала. Ее сменила Нина Абрамовна:
— Почему вы никогда не спросите у нас, скоро ли вас выпишут?
— Я надеюсь, вы сами об этом скажете.
— Да, скажем, — ответила она. — Ваша выписка настолько близка, что вы даже и не подозреваете об этом.
Остальные вопросы были не существенные, и их я не запомнил.
* * *Это случилось в субботу. По субботам в нашем отделении бывало бритье и измерение кровяного давления. Я уже знал свои обязанности во время этих мероприятий. Сразу после подъема я пошел к Цыпердюку и взял у него помазок, стеклянную банку и кусочек хозяйственного мыла. Тем временем больной Черепинский принес из раздаточной ведро горячей воды и, как всегда, вытаращив глаза и ужасно суетясь, вылил воду в таз, из которого моют полы в камерах, а потом поставил этот таз на стол. Я налил горячей воды в свою банку и стал разводить пену для того, чтобы мазать ею лица больных.
Увидев, что вода и мыльная пена готовы, санитар выпустил из камер четырех брадобреев. Бритье больных началось недавно, а до этого больных не брили, а стригли машинкой: и голову и лицо одновременно. Формально брить должны были санитары, но постепенно они передали это неприятное занятие больным, для чего отобрали постоянных людей.
Так и в этот день были выпущены из камер уже известные лица: Федосов, Беляков, Триандофилиди и Виктор Ткаченко. Бугор выдал им всем по одному лезвию, которым уже побрились санитары, и предупредил:
— Запомните: лезвий больше нет! Каждым лезвием вы должны побрить 25 человек!
Больные сперва мылились у меня, а потом шли к брадобреям. Те брили их стоя, полоская свои бритвы в общем тазу, вода в котором сделалась совершенно черной… Очень скоро бритвы затупились и стало неприятно смотреть как больные извивались ли под неумолимой рукой брадобрея. Однако бриться было нельзя. Все равно санитары приведут силой, свяжут и побреют. И еще тумаков надают.
Закончив бритье, Беляков, Федосов и я перешли сестринскую и принялись за другую работу: кровяного давления больных. Беляков нажимал грушу, Федосов накладывал жгут на руку очередного больного, я — записывал показания прибора, которые считывала медсестра. Когда и эта работа закончилась мы выходили из сестринской, дежурившая в этот Ирина Михайловна сделала мне знак рукой, что поговорить по секрету. Я подошел ближе и она шепнула:
— Я слышала, что вас выписали, Юрий Александрович!
— От кого вы слышали?
— От Лаврентьевны. Она такие вещи самая первая узнает.
— А на комиссии совсем не было похоже на выписку?!
— Ну, а теперь идите Юрий Александрович, — заторопила меня Ирина Михайловна. — А то кто-нибудь заметит, что мы с вами шепчемся и передаст врачам. И уже в истории болезни записано, что вы со средним медперсоналом…» А Прусс этого не любит.
Я вышел из сестринской и важная новость захватила все мои мысли. Однако у меня хватило благоразумия никому об этом не говорить. На следующий день то же самое мне сказал старший санитар: А вас выписали!
А вы откуда знаете? — спросил я. Да все сестры об этом говорят.
Я почти поверил и стал ждать. В те годы больным о выписке не сообщали. Заключенный узнавал о своей выписке только тогда, когда после утверждения решения комиссии судом, его вели фотографироваться на «Записку об освобождении». И то говорили неправду: вызывали якобы «на рентген». Дело в том, что рентген-кабинет и фотография находились в одном и том же помещении.
В течение нескольких месяцев, не подавая никому вида, я каждый день ждал этой команды «на рентген!» Но когда пришло время следующей комиссии, я понял, что все слухи о моей выписке, точно также как и давнее обещание Березовской, данное мне под барбамилом, были одинаковой провокацией и имели единственную цель — вывести меня из состояния душевного равновесия.