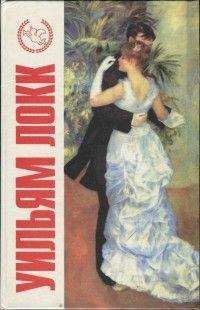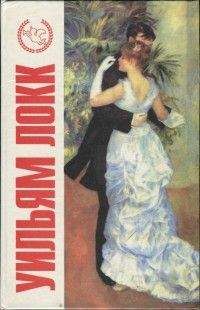Лев Славин - Ударивший в колокол
Что касается Константина Дмитриевича Кавелина, то это типичный перепуганный либерал. Таким он и выведен в романе Чернышевского «Пролог пролога» под именем Рязанцева — игрушкой в руках реакционеров. Что из того, что Кавелин искренен и бескорыстен? Его прямодушие прямым путем ведет его в стан черной реакции. Он пришиблен страхом перед возможной даже не революцией, а конституцией. Об этом, в сущности, брошюра Кавелина: «Дворянство и освобождение крестьянства». Он признавался Герцену:
«Игра в конституцию меня пугает так, что я ни об чем другом и думать не могу. Разбесят дворяне мужиков… Дурачье не понимает, что ходит на угольях, которых не нужно расшевеливать, чтоб не вспыхнули и не произвели взрыва».
Вот здесь-то отчетливо и пролег водораздел между старыми друзьями.
Ярость и горечь мешались в сознании Герцена, когда до него дошло это признание взбесившегося от страха человека:
«Прочитав твою брошюру, — отвечал он Кавелину, — у меня опустились руки. Грановский в гробу, Кетчер, Корш в Чичерине, а Чичерин в твоей брошюре. И это писал Кавелин, которого мы так любили…»
Нелегко дались Герцену эти строки. Он с трудом разрывал с друзьями. Нелегко ему было кинуть в глаза Кавелину, что его брошюра — «тощий, стертый и бледный памфлет…». Он требовал, чтобы Кавелин отрекся от него. Сознавал ли он, что это тому не под силу? Вероятно, да. Но ему хотелось верить в чудо, почти евангельское — очищение грешника.
Чуда не случилось. Кавелин стал добиваться свидания с Герценом. По-видимому, он рассчитывал, что сила и обаяние старой дружбы превозмогут противоречия между ними.
Он писал ему из Остенде (из Москвы, конечно, не посмел бы):
«Двенадцать лет мы с тобой не виделись, Герцен, а ты с Белинским и Грановским играли самую большую роль в моей жизни… Теперь ты один у меня остался, и всю любовь, к какой я только способен, я сосредоточил на тебе… Что к этой любви примешивается и благоговение, — в этом нет сомнения. Я не могу любить тебя, как совершенно равного, потому, что преклоняюсь пред тобой и вижу в тебе великого человека».
Но ни это слишком красноречивое признание в любви, аи довольно приторная лесть не действовали на Герцена.
А Кавелин продолжал засыпать его мольбами о личном свидании:
«…Каждый раз, когда об тебе вспоминаю, чувствую, что люблю тебя… Я связан с тобою тою связью, которая не прерывается, даже когда мнения расходятся…»
Герцен наотрез отказался видеть его, а о черносотенной брошюре его отозвался кратко, вспомнив Великую французскую революцию:
«…В 93 году тебе за это отрубили бы голову… я не нашел бы это несправедливым…»
Страшные слова. Беспощадные. Но они были сказаны. Более того, начертаны в письме. То есть врублены в историю. Непохоже на Герцена? Как сказать… Ведь один эпизод из Великой французской революции никогда не покидали его памяти: он не раз вспоминал, и притом во всеуслышание, что Робеспьер послал на эшафот Камилла Демулена, своего личного друга, но политического врага. Герцен с содроганием восхищался твердостью Робеспьера.
В дальнейшем Герцен всегда выступал против «экс-профессора, когда-то простодушного, а потом озлобленного, видя, что здоровая молодежь не может сочувствовать его золотушной мысли».
В чем же возможная польза от этого «Письма к издателю» двух идеологов дворянского умеренного либерализма, не только решительно не совпадающих, но прямо противоположных его революционно-демократическим убеждениям?
В свободе печатания, полагал Герцен! В бесцензурности!
Редкий литератор в России не писал тогда впрок, для будущих времен, и не хоронил написанное в склепе своего письменного стола. Среди этих пишущих молчальников были люди различных взглядов, даже консерваторы, даже ретрограды, даже сановники из брюзжащих. Но были, разумеется, и «леваки», отбегавшие далеко от Герцена в своих экстремистских взглядах.
Для всея Герцен распахнул страницы этого нового издания — «Голоса из России». Он хотел показать, что Россия не молчит. Только выньте из ее рта цензурный кляп, и она заголосит, затрубит, как орган, во все множество своих голосов.
И если в «Колоколе», в «Полярной звезде» публиковались материалы, только созвучные взглядам их издателей, то «Голоса из России» должны были стать, по намерениям Герцена, широким парламентом мнений.
Умеренность или подлость?
Ужасно много можно было бы сделать, если б не апатия наша, да не привычка к крепостному состоянию.
ГерценБорису Николаевичу Чичерину было тридцать лет, когда он впервые выехал за границу.
Цель? Образовательное ли путешествие? Жажда ли новых впечатлений? Научный ли интерес? Может быть, скуки ради развлекательный вояж, что ли?
Маршрут знатный: Англия, Франция, Италия. Какие достопримечательности! Собор Парижской богоматери! Гробница Наполеона! Лувр! Миланский собор!
А в Лондоне — собор святого Павла, разумеется? Да нет. Трафальгарская площадь? Тоже нет. Смена гвардейского караула у королевского дворца? Да нет же!
Так что же в Лондоне влекло к себе молодого московского профессора?
А главная его достопримечательность — Герцен.
Когда Чичерин появился на пороге дома в Путнее и представился Герцену, Александр Иванович, насмешливо сощурившись, спросил:
— Не побоялись к государственному преступнику?
Проворный ум Чичерина тотчас нашелся:
— К вам теперь так много ездит русских, что, право, надобно иметь больше храбрости не быть у вас, чем быть…
Находчивый ответ понравился Герцену, и он на некоторое время расположился к Чичерину. Тут действовали и старые московские воспоминания. Взгляд Герцена с некоторой ласковостью остановился на Чичерине.
— Я вашего батюшку знал, Борис Николаевич. Он был одним из наших.
Чичерин выглядел старше своих лет. Он обзавелся солидной профессорской наружностью — респектабельная бородка, золотые очки, брюшко. Но под академической основательностью ютился весьма юркий темперамент, понаторелость в практицизме, незаурядная способность приспособления. Постепенно сквозь свободное благообразие манер стал прощупываться стойкий сухой доктринер. Стала просвечивать и истинная цель его посещения: перетянуть Герцена в стан умеренных либералов, вот именно умерить, упредить его революционно-демократический накал.
Сразу ли понял это Герцен? Он так часто ошибался в людях. Не тотчас ведь разгадал он, что Гервег — лицемер, Энгельсон — истерик, Сазонов — завистник, Аяин — себялюбец. Но когда дело шло не о душевных качествах, а о политических взглядах, проницательность Герцена действовала мгновенно и безошибочно.