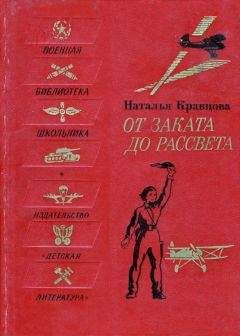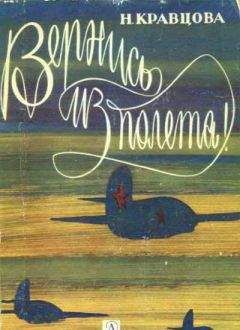Елена Боннэр - Дочки-матери
Это чувство нового города, с которым как-то истинно общаешься, неожиданно повторилось у меня в Багдаде и во Флоренции. Только ты. И город с тобой наедине. Открывающийся только тебе. Тебе подаренный.
Однажды я набрела на Музей изящных искусств. Поднялась с набережной. Пошла в сторону дома. И набрела. После первого посещения я стала ходить туда, как на службу. Позавтракаем. Папа уйдет на работу. А потом я — в музей. А в последние дни лета ехала с ним в машине до Коминтерна, а оттуда было совсем рядом. Так проходили дни. А вечерами, если к папе никто не приходил, мы кутили. Я надевала свое желтое платье, заколкой к волосам прикрепляла цветок, за что папа называл меня Кармен. И мы шли ужинать в «Арагви» или в ресторан на углу Страстной, только я не помню его названия. До этого я бывала только с мамой или с ним днем в кондитерской или в кафе. Это были первые мои «взрослые» выходы. Собираясь, я вспоминала рассказы Ольги Андреевны о девочках Шереметевых и про себя говорила, что меня «начали вывозить в свет».
Никогда раньше у папы не было столько времени для общения со мной. Да и какое общение, если не вдвоем? Мы читали друг другу стихи, я уже понимала, что папе не очень есть кому читать. И о многом разговаривали. Даже о мировой революции и о том, что с ней «придется подождать». И о Гитлере и «Майн кампф», которой я не читала.
Я все ждала, что, может, папа как-нибудь заговорит об Ага-си. Но он о нем не вспоминал. И однажды я решила спросить. Папа как-то весь сник. Молча закурил. И потом сказал, что лучше мы не будем о нем говорить. А я вдруг поняла впервые, что вообще-то папа не веселый человек, может, счастливый, потому что любит маму. Ну, и нас. Он, конечно же, типичный «армянский» папа, у которого детям все можни. Не веселый! И не очень удачливый, резкий и сильный человек, которого любят друзья. А кто-то может очень не любить,
Все это я связала воедино и облекла в слова потом, когда папы не стало. И я долгими ночами маялась оттого, что все представляла и не могла представить, как он в тюрьме. Как он, что он думает. Как его расстреливают Как вообще людей расстреливают? Про маму, мне казалось, я знаю все: что ей трудно, что она мучается за папу, за нас, за Батаню. И я думала, что раз я знаю, то это мое знание как-то ей помогает. Я ей помогаю. А про папу я не знала и ничем не могла помочь. Даже мысленно.
Этот месяц, этот жаркий городской август за то, что он был с папой, я всегда вспоминаю, как подарок судьбы.
К концу месяца наши с папой «выходы в свет» прекратились, потому что у папы кончились деньги. На завтрак я стала варить манную кашу, подолгу мешая ее, чтобы она получилась «без комков». Ужинали мы жареной картошкой с колбасой, и я с удивлением узнала, что папа картошки не любит. Это было непостижимо — не любить картошки! А иногда ходили в гости, чтобы ужинать там. То к Каспаровым, то к Мусе Лускиной и Ване и даже раз к Фарик Асмаровой. К той самой Ахчи, у которой папа меня нашел, когда «другой» хотел меня украсть. Я не очень хотела к ней идти. Но папа сказал: «Чепуха. Ахчи хороший товарищ, я знаю ее всю жизнь. Ты про то забудь. А в Москве она готовит лучше всех, даже лучше, чем армяне из «Арагви»».
Потом приехала Монаха. И стала стирать, чистить дом и нас кормить. На какие деньги, не знаю, наверное, на свои. Так не раз бывало с нашими домработницами. Конечно, деньги потом отдавались. Но, наверное, и без отдачи кормили бы. Приехали мама с Егоркой. Мы с папой их встречали. Папа, протянув руки, снял с площадки вагона Егорку, потом маму. Она пищала и смешно дрыгала ногами. Я поразилась, до чего ноги у нее коричневые и красивые, И лица у них были темно-шоколадные. Прямо мулаты какие-то. Я никогда в жизни так не загорала. Мы шли вчетвером по перрону. И я чувствовала, что мама и папа совсем такие, как были раньше в Ленинграде. Счастливые. Молодые. Красивые. На другой день приехала Батаня. Днем она что-то обсуждала с Монахой и ругала их за вечное отсутствие денег, за то, что они «совершенно безответственные люди». Мне было неприятно, что она говорит об этом с Монахой, хотя меня проблема денег не занимала. Когда я просила денег на кино, тетради, книжку, новую ленту, мне всегда давали. Папа обычно даже больше, чем надо. Правда, когда я стала просить велосипед, мама сказала, что денег нет.
Сейчас велосипед у меня был. Его подарил мне на день рождения, как раз в этом, Зб-м году Бронич. Папа и мама тогда говорили, что мне повезло, что Бронич приехал в Москву на какое-то совещание у Серго. Как раз на мой день рождения. Потом они смеялись над ним, что он богатый, как Форд, и ему пора жениться. А я удивлялась тому, как же они не видят, что он давно любит маму и поэтому никогда не женится. И еще больше любила его за то, что он любит и папу. Но я ошиблась. Вскоре Бронич женился. Но не успел приехать к нам с женой. Их арестовали раньше папы.
Жизненный уровень нашей семьи, наверное, по тем временам был очень высоким. Всегда была еда. После 30-го или 31-го года всегда были пайки, так что еды хватало и на тех, кому мама и Батаня помогали. Всегда была домработница. Правда, мамы почти никогда не было дома, даже регулярные выходные появились у нее только в последние годы. А когда она работала в МК, то совещания, заседания, конференции, партактивы, посевные, уборочные шли сплошной полосой, и я иногда неделями ее не видела. И оставляла ей в столовой записки, если мне было что-то надо, потому что она уходила, когда я еще спала, а приходила, когда я уже спала. Была казенная дача, где, как и в городской квартире, все было казенное. А пока ее не было, дачу снимали или детей отправляли на лето в какое-нибудь привилегированное детское учреждение. Мама и папа каждый год в отпуск ездили на юг к морю, в какой-нибудь южный дом отдыха. Когда они болели, то лечились в Кремлевке. Но нас с Егоркой всегда лечила тетя Роня. Покупались книги. Но никогда не купили хоть один стул. В доме были позорно-нарпитовские тарелки, чашки, стаканы. И алюминиевые вилки-ложки. Батаня, держа в руке чайную ложку, брезгливо говорила: «Хоть с собой привози!» На что я ей про себя отвечала: «А ты свое серебро из сундука достань и подари нам!»
Иногда приходила домашняя портниха. Она шила постельное белье и даже стегала одеялй (мама любила хорошее постельное белье, я это от нее унаследовала). Портниха шила на меня и Егорку; фланелевые блузки и рубашки, юбки и штанишки, чаще всего выкраиваемые из каких-то старых вещей, извлеченных из Батаниного неистощимого сундука. Мама всегда ходила в юбке и блузке. Необходимость купить любую новую вещь становилась проблемой, которая решалась компромиссом, с помощью того же сундука. Оттуда появился отрез папе на костюм, потом маме шили зимнее пальто из какой-то ротонды, лежавшей там со дня революции.