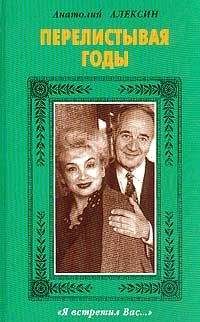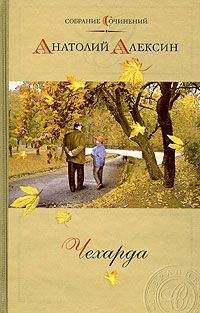Анатолий Алексин - Перелистывая годы
– У нас же союз не потрясающих писателей, а просто профессиональных, – продолжал я полуотшучиваться.
Полагаю, его никакие произведения не потрясали, поскольку произведений он вообще не читал. Но и сдаваться не торопился:
– Кто-то же должен и на первом этаже жить! Инвалиду как раз удобно: не надо добираться наверх.
– А в доме разве нет лифта?
– Тебя не переговоришь! – он с ходу всем «тыкал». – Что делать? Придется пойти навстречу. – Он набрал телефонный номер и стал распоряжаться в трубку: – Там у нас что-то есть в заначке на третьем этаже… Перебросим туда с первого!
Когда я, исполненный благодарности, поднялся со стула, так и не отведав ни одного напитка из тех, что прятались в сейфе, управляющий размашисто схватил меня за рукав:
– А кстати! Моя дочь учится в музыкальной школе. То есть, это дочь моей жены от первого брака: люблю военную точность! Замечательная дивчина! Тут, видишь, какое дело… Я давно хотел к тебе обратиться. Директор школы сказала, что если б ты провел читательскую конференцию, она бы пригласила районное начальство, – и им бы… произвели капитальный ремонт.
Думаю, ремонт с конференцией он увязал сам, по ходу нашей беседы: требовалось любым способом привлечь внимание районного начальства к музыкальной школе, где пребывала его падчерица.
– Школа, к сожалению, находится фактически за городом. Люблю военную точность! Но у меня – «мерседес»: туда и обратно. Так что не беспокойся!
Я согласился.
А месяца через полтора мне позвонил тот самый ответственный секретарь одного из «средств массовой информации»:
– Благодарю вас! Сережа поступил… Так что спасибо! Правда, он вас не подвел: все экзамены сдал на «пятерки». Оказался на высоте. Но вы все же ездили, хлопотали… Поэтому благодарю. Но он, молодец, не подвел!
Стало быть, все мои унизительные поездки были ни к чему: Сережа сам по себе – и без посторонней помощи! – оказался большим молодцом.
По наивности своей я позвонил ректору института, тому самому милейшему старичку-ученому с непоблекшими очами, но надтреснутым голосом:
– Спасибо вам! Правда, Сережа не подвел нас с вами: экзамены сдал на сплошные «пятерки».
Ироничный хохоток был мне ответом. Стало совсем уж не по себе:
– Извините, пожалуйста.
Мертвое море
С голоса
Передо мной было Мертвое море. Совсем мертвое: без подводных растений, без рыбьей суеты, без малейшего внутреннего движения. Засоленная, словно забальзамированная жизнь…
Такою была и моя. Или, точней, стала. Я пытался – в который уж раз! – представить себе, как и почему это произошло.
– Ты слишком часто отсутствуешь на земле, – усмешливо предупредил меня как-то приятель не ради заботы, а ради забавы. – Но именно на ней, на земле, все грешное и случается.
«В мое отсутствие?» – молча спросил я себя самого. И сам себе не ответил.
Жанна не терпела ничего, казавшегося ей банальным: ни одежды, ни фраз. Ни поступков… Потому мы и не вступили в законный брак: это бы выглядело ветхой обычностью.
Она работала гидом в московском музее – и привыкла к прекрасному. Коим я не являлся… Она была из тех женщин, для которых внутренние качества решающего значения не имеют, поскольку их способны прикрыть качества внешние. Но я все же, преодолев фасад и витрину, разглядел: Жанну одолевала страсть приобщаться к чему-нибудь сверхъестественному. В том числе к полотнам и скульптурам, которые по размеру иногда умещались на скромном и даже ничтожном пространстве, но не умещались в восторженном сознании человечества. Со временем я приметил, что Жанну больше потрясали не сами творения и не те, что их воспаленно оценивали, а те, что приценивались. И на аукционах шедевры приобретали…
Именем своим – Жанна! – она тоже приобщилась… к исторической личности, которая одной, определенной стране вроде уже не принадлежала, так как символы не имеют гражданства. Поначалу и профессия моя тоже ее потрясала. Та профессия представлялась Жанне не романтичной, как многим другим, а загадочной.
– Это просто работа, – привычно не согласился я.
Я не стал объяснять, что шоферу вести переполненный автобус гораздо опаснее. В отличие от меня он окружен и стиснут другими машинами. Так, как и всегда в жизни: одни сзади, другие же – впереди. Те, что сзади, следуя человеческим нравам, пытаются обогнать. Но прежде, чем обогнать, приходится поравняться. И некое время противоборствовать, находясь рядом. Это тоже, как в человеческих отношениях: самая рискованная ситуация. Ее не доверишь автопилоту, а вернее, «авторулю». Я не стал огорчать Жанну: «Пусть думает, что гигантское воздушное чудище, смахивающее на доисторических земных обитателей, отрывается от взлетной полосы не могуществом техники, а лишь могуществом моей смелости и моего искусства. Они чудились ей таинственными. Пусть заблуждается… мне на пользу!»
– Мир состоит из пассажиров, которые с твоей помощью могут взмыть! – восторгалась она. – Если слово «пассажир» произошло от «пассажа», то главный их пассаж – всего лишь пристегнуться ремнями.
– Я тоже пристегиваюсь.
– Но ты – к небу! А они – к пронумерованным креслам. Тогда она любила… Меня или мою «исключительность»?
Кто знает?
Людей чаще всего восхищает то, на что они неспособны. Жанна боялась высоты: воздушным лайнерам она предпочитала морские, а еще более – обыкновенный наземный транспорт. Она опасалась лифтов, которые могли застрять, повиснув над пустотой.
Мы, кстати, и познакомились с ней, застряв между двумя этажами. Деваться было некуда. Волею судьбы мы сразу, без подготовки, оказались наедине. Сперва она лишилась голоса. Но я понемногу хладнокровием своим вернул ей дар речи… и возможность вновь сделаться женщиной.
– Мне с вами спокойно, – сказала она. И неспокойно прильнула, как бы продолжая искать спасения. А потом, также вдруг, принялась целовать меня… в знак благодарности.
– Я полюбила тебя за то, что ты лишил меня страха, – впоследствии не раз говорила она.
Иные любят за то, что их «лишают невинности». А она любила за то, что я лишил ее ужаса.
– Ты освободил меня от неприятия высоты!
Я знал, что любовь «за что-нибудь» ненадежна и кратковременна. Только необъяснимая страсть неподвластна времени.
– Я оценила тебя «в подвешенном состоянии», – полушутливо утверждала она. «Лучше бы уж оценила в лежачем!»
Цинично эпатирую я сейчас, через годы: чтобы даже памятью не возвращаться в ту пору всерьез.
…Ее чувство, я знал, могло испариться, исчезнуть столь же непредсказуемо, как и наша подвешенность в лифте. А сам я застрял в том лифте надолго.