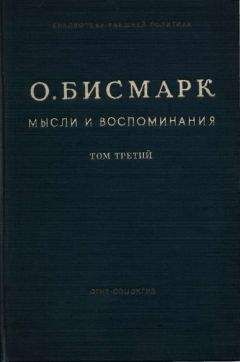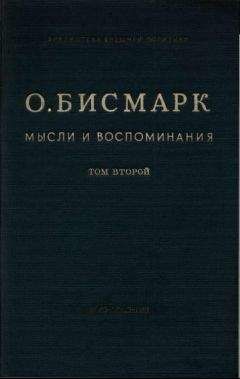Надежда Дурова - Кавалерист-девица
Казалось, я хотела наверстать принуждение целого года, потому что бегала во весь дух; скакала, как дикая коза; разбегалась с горы и перескакивала кусты вереса, по нескольку, один за другим. Подруги мои не могли и подумать поравняться со мною в этом удальстве. Чтоб позабавиться их страхом, я прибегала на самый край стремнины, становилась на нем одною ногою, держа другую на воздухе. Вопль ужаса раздавался за мною, и нянька, которая водила с нами маленькую сестру мою, почти со слезами просила меня оставить такие страшные шутки. «Перестаньте, матушка барышня!.. вспомните, что ведь уж вам четырнадцать лет!.. кстати ли будет вам упасть с горы;.а если еще, чего боже сохрани, изломаете ручку или ножку, что тогда делать?» Но я была глуха к доводам доброй Марьи: вечное заключение в горнице и проклятая кружевная подушка делали для меня день моей свободы чем-то волшебным, то и резвость моя по этой причине доходила до степени совершенного сумасбродства.
Наконец, устав прыгать и бегать, уселись все мы на траву есть пироги и лакомства, которых матушка дала нам в изобилии. По окончании нашего полдника, нам должно было возвратиться домой. Чтоб окончить этот день какою-нибудь шалостью знаменитою, спешила я пройти мысленно все свои резвости в Малороссии и вспомнила, что, живши там, случалось мне иногда находить змею, на которую я в ту ж секунду наступала ногою, наклонялась, брала ее осторожно рукою за шею, близ самой головы, и держала, но не так крепко, чтоб она задохлась, и не так слабо, чтоб могла выскользнуть. С этим завидным приобретением я возвращалась в комнаты бабушки и когда ее не было дома, то бегала за Гапкою, Хиврею, Вивдею, Мартом и еще несколькими, таких же странных имен, девками, которые все хотя были гораздо старше меня, но с неистовым воплем старались укрыться куда попало от протянутой вперед руки моей, в которой рисовалась черная змея!.. В настоящем смысле рисовалась, потому что она то яростно шипела, выставляя что-то изо рта, то очень картинно обвивала хвостом мою руку, обнаженную до локтя, то опять развивала и махала им в воздухе.
Избегав весь дом по всем углам, заставя всех кричать столько, сколько у кого было голоса, я уходила в сад и в ту минуту, как хвост змеи, оставляя мою руку, колебался в воздухе, бросала ее вдруг на землю и вмиг убегала.
Теперь, вспомня эту приятную забаву, я от души жалела, что холодный климат наш вовсе неблагоприятен для змей и что у нас их почти нигде и никогда не видно. Приходилось эмблему вечности заменить лягушкою, которой одна из подруг моих смертельно боялась; но как гадина эта казалась мне слишком уже гадка, чтоб взять ее в руки, а, сверх того, и не было се наготове, а полдник наш приходил к окончанию, искать ее было некогда, то я и решилась подняться на хитрости.
Как только мы кончили нашу полевую трапезу и нянька, приказав людям убирать все, сказала нам: «Теперь пора домой, барышня! маменька приказала, чтоб к пяти часам вы были дома», я отбежала шагов двадцать от места нашего пированья и, ухватя черный засохший листок, показала его издали Аннете, говоря: «Посмотри, Аннета, вот лягушка!» Анкета помертвела, закричала и, как стрела, полетела на большую дорогу, прямо к заставе города; все кинулось за нею и все кричало…
Испугавшись этого слишком уже полного успеха своей глупости и страшась, чтоб с Аннетою не было чего дурного, бежала я за ними, крича, что это листок, не лягушка, и в уверение показывала его; но подруги мои ничего не слыхали: они видели только, что я догоняю их и держу в руке что-то черное. Они добежали до будки часового, ворвались в неё и заперлись.
Изумленный инвалид протирал глаза свои, полагая, что ему это помстилось, как они говорят; но, увидя и меня, летящую вслед за ними, осклабился милостиво и, указывая на свое обиталище, сказал: «Все тут спрятались!»
С трудом уверила я Аннету и подруг, что в руках у меня был листок, а теперь нет уже и его. Они не отпирали. пока ветеран не побожился, сказав: «Право слово, сударыни, в руках ее высокоблагородия ничего нет!» Тогда затворницы вышли; подошла и нянька с маленькою сестрою. Все в тишине и безмолвии отправились по домам. Аннета просила меня дать ей слово никогда не пугать ее более призраком лягушки. «Я могу умереть от этого, — говорила она, — тогда чем ты разделаешься с своею совестию?..» Я никак не могла понять этой необычайной степени страха, потому что сама ничего не боялась; однако ж видела, что подруга моя говорит правду: когда она увидела издали мой листок и по восклицанию предполагала, что я достала лягушку, чтоб пугать ее, то лицо у нее покрылось все черными пятнами. Расставаясь, мы помирились: я просила ее не сердиться, она простила; но, когда она опять повторила свою просьбу не шалить так безжалостно в другой раз, мне стало очень грустно. «Да разве ты думаешь, Аннушка, что это так возможно… В другой раз!.. А как бы ты думала, когда настанет этот другой раз?.. Не ближе будущих именин; а тогда кто знает, что будет? Ты старше меня более года, тебя отдадут замуж!.. Когда нам придется опять играть вместе?.. Матушка не пустит меня до будущего лета никуда больше!..» Сумасбродная резвость моя утихла, и слезы навертывались на глазах. Аннета обещала приходить ко мне всякий раз, как только мать ее пойдет к моей матери.
Мне никак не приходило в голову, что все мои дикие скачки на Старцовой горе, прыганье через кусты и мастерское балансированье на краю пропасти на одной ноге были видны матушке как нельзя явственнее: окно спальни ее было прямо против этого места; она взяла зрительную трубку, навела ее на место наших игр, и я в своем белом платье с розовым поясом подвизалась пред нею со всею возможною энергиею самой сумасбродной резвости.
«Ах, барышня, барышня, что вы наделали!.. — говорила мне моя Василиса, приглаживая мои волосы, как-то глупо переколотые булавками вместе с лентою. — Матушка хотела послать за вами Степана, чтобы вы сейчас шли домой, да уж Дарья Ивановна упросила; она сказала, что в этот день не надобно с вас взыскивать так строго». — «Да ведь мы недолго были там; сказано: прийти домой после вечерни; ну, вот мы и пришли в то самое время, когда люди вышли из церкви». — «Барыня не за это рассердилась: она видела из спальни, как вы скакали через кусты и становились по-журавлиному над пропастью; матушка все смотрела на вас в долгую трубку, что с обоих концов ее окошечки круглые, и беспрестанно вскрикивала: «Негодная повеса! она сломит себе голову! она слетит в пропасть! Чего смотрит там эта дура Марья?..» После подозвала она Дарью Ивановну и отдала ей длинную трубку. «Ну вот, посмотрите сами, Дарья Ивановна! Говорят, я строга; но с этою негодною девчонкою и сам ангел милосердия сделается строг!» Дарья Ивановна смотрела долго и то вздрагивала, то хохотала… а матушка сердилась!.. Ох, как сердилась!» — «Ну, а Дарья Ивановна что говорила?» — «Да уж, видно, нельзя было закрыть-то вас; и она говорила, что в четырнадцать лет барышне можно б так и не прыгать… Какая, право! на что бы ей это говорить, когда видит, что барыня и так сердита?.. Ну теперь, барышня, я все оправила на вас, идите к матушке; она приказала, как возвратитесь с прогулки, чтобы сейчас пришли к ней». Я спросила Василису, где батюшка, и, услышав, что у него гости, пошла к матери с сердцем, полным страха и каких-то грустных ожиданий.