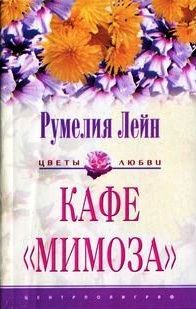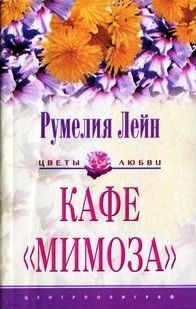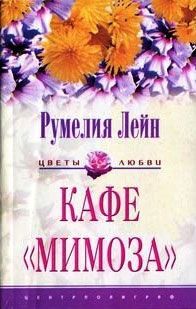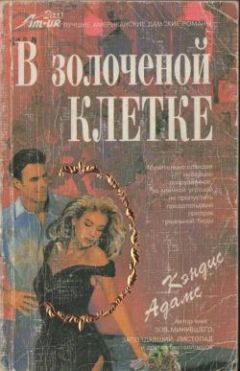Виктор Розов - Удивление перед жизнью
Кстати замечу: сейчас у нас в Москве, а не в Лас — Вегасе, входит в обычай обращаться к людям на улице, в метро, в магазине, во всех общественных местах не со словами «товарищ», «гражданин» или «гражданка», а «мужчина» и «женщина»: «Женщина, где это вы купили бананы?», «Мужчина, вы здесь не стояли!», «Женщина, вы мне не подскажете, как проехать в Третьяковскую галерею?», «Мужчина, у вас из авоськи что‑то течет».
Есть в таких безличных обращениях, основанных только на половых признаках, что‑то холодное, бездушное и даже жуткое. Лично я предпочитаю говорить «гражданочка», «девушка», «гражданин» и даже «сударыня».
В первый день в Лас — Вегасе я выиграл довольно много металлических долларов и нес их в пакетах в свой отель. На улице никто на меня не нападал с намерением похитить мое богатство, так как — мне объяснили — в Лас — Вегасе нет воровства. Причина столь стерильной в этом отношении атмосферы в таком жадном до денег городе кроется в довольно оригинальных обстоятельствах. Среди держателей этих архиприбыльных игральных заведений большая доля принадлежит мафии. И именно главари мафии деликатно объяснили всем и каждому, что, если в городе появятся непорядочные люди, им, этим людям, будет нехорошо. И верно, ну зачем какое‑то жульничество в этой кузнице металла…
На другой день я снова играл — любое казино открыто беспрерывно, все двадцать четыре часа в сутки, — проиграл вчерашний выигрыш, а сверх того— добавил из собственного кармана. И уехал. Нет, старые мерзкие страсти во мне не пробудились, разве что шевельнулись. Я действительно только играл в детском понимании смысла этого слова.
Вот куда от трогательных костромских ярмарок времени нэпа унесли меня мысли! В те же двадцатые годы сколько кинофильмов я пересмотрел! Практически видел все знаменитые ленты великого немого кино — и наши, и иностранные. И кинотеатров‑то в Костроме было всего два: «Пале» и «Современник». Но названия фильмов мелькали с быстротой кадров. Каждый фильм шел только три дня. «Спешите видеть!» И все, что производил мировой кинематограф тех лет, с необычайной быстротой появлялось на костромском экране. Мне даже и сейчас непонятно, как это делалось. Ну, наши, советские, я еще понимаю — привезли из Москвы, всего полсуток езды на поезде. Но из Америки! И с Мэри Пикфорд. и с Дугласом Фербенксом, и с Вильямом Хартом, и с Вестером Китоном, и из других стран — Пола Негри, Гарри Пиль, Мацист, Чарли Чаплин, Пат и Паташон, Гарольд Ллойд, Аста Нильсон. Эмиль Яннингс… Да разве возможно перечислить всех кумиров тех лет! И наши звезды, ничем не уступавшие заграничным: Пата Вачнадзе, Малиновская, Ильинский, Кторов, Баталов… Костромские мальчишки были великолепными знатоками мирового кино! Мы же старались не пропустить ни одного фильма. Сначала в кинотеатрах места были ненумерованные и захватывались с боем, так весело описанным Зощенко. Нам, вопреки сегодняшней логике, хотелось сидеть непременно в первых рядах. В этом был даже свой порядок. Сначала врывалась орда малышей, рассаживалась поближе к экрану, а потом степенно входили взрослые. Я думаю, желание сесть поближе к экрану было желанием оказаться ближе к героям, рядом с ними, принимать прямое участие в событиях их жизни. Помните, как верно почувствовано в стихотворении К. Симонова это детское желание броситься в экран спасать героиню: «…догнать, спасти, прижать к груди». К сожалению, сейчас нет — нет да появится какая‑нибудь статья с протестом против показа приключенческих или даже фантастических фильмов. Читая подобную статью, так и кажется, что ворчит человечек, дряхлый душой, забывший даже свои собственные детские радости.
В эти же годы возникли и факельные шествия. Что это такое? Объясню. Тридцатого апреля, в канун праздника Первое мая, когда город погружался в темноту — а в те времена уличное освещение было ничтожным, — со всех дворов стекались люди с факелами, поднятыми над головами. Сооружались эти светильники просто — бралась старая консервная банка, в нее плотно набивалась пакля, пакля эта пропитывалась керосином, начиненная банка приколачивалась к палке, поджигался керосин, вспыхивало пламя, и палку вздымали ввысь. Люди с факелами объединялись в группы, шли по темным улицам, встречали другие группы, соединялись и, двигаясь из улицы в улицу, в конце концов образовывали бесконечный поток демонстрантов, длинной извивающейся лентой тянущийся в улицах. В Темной ночи текла огненная река. Очень мы любили ходить в этих колоннах. Торжественно и жутко! Так отмечался грядущий Первомай. А утром, едва открываешь глаза, видишь — на столе под полотенцем что‑то лежит и издает дурманящий запах. Это пироги. Мама пекла их с большим искусством. И с мясом и луком, и с зеленым луком и яйцами, и с рисом и яйцами, и с саго — эти мы любили особо, так как. когда пирог разрезали, саговые круглые скользкие зернышки разбегались по с голу, как ртутные шарики, и их было весело ловить. Да, в те годы у нас в доме пироги пеклись даже и не по таким большим праздникам, а каждое воскресенье.
Сущность нэпа, как нам тогда объясняли взрослые, сводилась к борьбе между кооперацией и частником. Кто кого. Вот и шла у них между собой живая конкуренция, которая всем жителям была выгодна. Я не помню, когда возникло слово «нэпман». Пожалуй, узнал я его позднее, уже из книг. А поскольку тогда я был ребенок, то настоящих нэпманов в глаза не видел. Правда, вспоминая теперь, могу сказать, что с одной нэпманшей я имел дело. Женщина эта была немного знакома с моими родителями и держала павильон «Мороженое» в городском парке. Это была крытая с ажурными стенами из реек голубенькая беседка, самая изящная из всех, находившихся в парке. Женщина Эта— ах, я забыл ее имя и фамилию! — часто обращалась ко мне с просьбой наколоть ей грецких орехов для того, чтоб делать ореховое мороженое. Наша квартира помещалась в доме совсем близко к парку — улица Кооперации, дом 3. Мне давали пакет с грецкими орехами. Я брал глубокую тарелку, молоток, садился во дворе на лавочку — и стук — с гук! — колол орехи. Старался не съесть ни одного ореха, но все же не удерживался и наиболее мелкие крошки бросал в рот. Наколов тарелочку орехов, я нес ее прямо в голубой павильон и отдавал хозяйке. Хозяйка тут же усаживала меня за столик и спрашивала, какого мороженого я хочу. Это была плата. Конечно, она эксплуатировала детский труд, но, право, я не чувствовал гнета этой эксплуатации и вполне бывал доволен сладким заработком. Войдя в полное доверие, я иногда приглашался к хозяйке домой. Собственно, не в дом, а во двор. Там для меня открывался маленький чистенький сарайчик, в углу которого грудой лежали вафельные обрезки, мне разрешалось не только их есть, но и брать с собой. Дома бывали довольны моей добычей, так как похрустывать вафлями любили все. Парк, в котором находился сладкий голубой павильон, был любимым местом гулянья горожан. Вечером там гремел духовой оркестр и на скамеечках сиживали парочки, парочки… Впрочем, вечером мы туда не ходили, а если что и замечали, то издали. А днем парк был наш! Над самой Волгой был воздвигнут постамент из финляндского гранита — его соорудили к трехсотлетию дома Романовых, так как известно, что в 1613 году Россия, потеряв уже всех из рода Рюриковичей, измученная Лжедмитриями, неудачным Шуйским и вообще междуцарствием, отправила посольство в город Кострому, в Ипатьевский монастырь, расположенный на стрелке слияния Волги и реки Костромы, звать на царство сына митрополита Филарета Михаила. Хотя постамент этот и был уже сооружен, но фигуры царей, которые предполагалось установить на его выступах, к 1913 году поставить не успели, и они, эти фигуры, стояли в открытых громадных ящиках вблизи постамента. Стоял там и сам митрополит Филарет и выделялся среди других чугунных темных фигур своей церковной одеждой, а главным образом — круглой золотой пупочкой на голове, на скуфье. Мы, ребята, лазили этим фигурам на руки, на плечи и даже на головы.