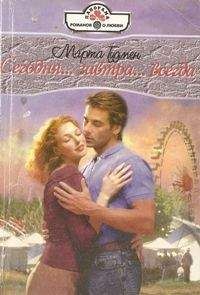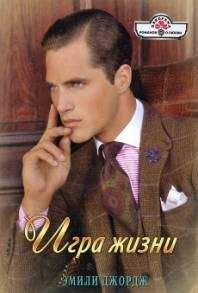Виктор Есипов - Василий Аксенов — одинокий бегун на длинные дистанции
Образ речи
Думать и писать об Аксенове настоящее счастье. «Искусство трагически разъединяет», — сказал кто-то из наших общих знакомых. С Аксеновым искусство объединяло, как объединяет сверхчувственное в сфере реального.
Писать для него значило жить, читать же Аксенова для многих оказывалось жизненной потребностью и, по-возможности, актом сотворчества. Мы проводили вместе много времени — настолько много, что, кажется, теперь его не осталось совсем, оно куда-то ушло вместе с ним. Это были праздничные встречи, «последний час вигилий городских» в годы сумерков, общие поездки, после того как «наука расставанья» была уже изучена вполне и когда стали возможны «Аксеновские конференции» на родине: сначала в Самаре, потом в Казани… Университетские чтения, джазовые площадки, атмосфера фестиваля. Многие говорили — «междусобойчик». На самом деле разумное использование сохраненной энергии дружества, которую можно передать кому-то дальше в форме живой и неназойливой.
Как сказал один русский классик, нет ничего хуже невеселого ума. Веселый ум Аксенова чуждался академической и коллективной скуки, он хорошо разбирался в том, что такое общий застой и общее благо.
Зачем в наше время нужен роман? Чем болен ХХ (Ха-Ха) век, и почему мы так самоуспокоены перед веком наступающим… уже наступившим? На эти серьезные вопросы у Аксенова были серьезные ответы. Последний незаконченный роман «Дети ленд-лиза» — тоже ответ, только зашифрованный. Найти шифр к чтению на сей раз представляется делом нелегким, но благодарным. Евг. Попов предлагал при издании использовать систему комментариев, документальных дополнений от публикаторов. Я бы оставила все как есть, роман в его незавершенности. Подобно пушкинским «фрагментам», то особый жанр, где по части опознается целое. Перед нами два больших отрывка прозы, полный объем которой неизвестен. Но ведь и сам автор утверждал, что в процессе письма он н е з н а е т окончания задуманного. Им движет не сюжет, а язык, вырабатываемый сплав слов и наречий.
В «Детях ленд-лиза» по крайней мере два разных «наречия». Ярко выраженная мемуарно-повествовательная стихия первой части и пласты глубокого залегания памяти — во второй, кажущейся менее отделанной, но в действительности, гораздо более интригующей частью романа. Между двумя этими величинами — невосполнимый прерыв. Был бы он сознательно сохранен автором или же стилистически выровнен на заключительном витке работы какими-то сюжетными мостами, теперь уже не узнаешь.
Все отныне восполняется воздухом, прибывающим после смерти писателя. Человека нет, а воздух, которым он дышал, остается не потребленным и не отработанным. Он как бы дан нам в произведении — для нашего вдоха и выдоха. Предлагаю читателю именно такой способ дыхания: прерывистый, но с ощущением просторного «сквозного действия», которое стоит за текстом.
«Парфенон не врет» — так называлась одна из моих заметок об Аксенове, подразумевающая такое свойство, как непреложность творчества. Рада была потом узнать, что подобную тему для сочинений писатель задавал своим американским студентам. Почему реально вводят в душевный морок величественные конструкции сталинского ампира, но не обманывает глаз архитектурное решение Парфенона? Аксенов, как мне кажется, читательских ожиданий не обманывал никогда. Каждый его роман — стройная архитектоника писательской судьбы.
В аксеновской жизни всего было с избытком, как и в жизни родного отечества. Звезды рождения, энергия заблуждений, ранний успех, азарт, романтизм, героизм, «дендизм» … литературные стили и сюжеты этого то ли скептического почвенника, то ли пламенеющего западника примиряли крайности советского бытия прекрасными «фигурами речи». Однажды я изложила Аксенову взгляды Ницше на теорию катарсиса, который тот полагал не результатом психофизических процессов «очищения состраданием и страхом», а коллективной реакцией зрителя древнегреческих трагедий на образы и фигуры поэтической речи. Да-да, усмехнулся Василий Павлович, «Бог умер», «уберменш»… это было сказано перед тем, как разум совсем покинул гениального философа… К своим красотам стиля Аксенов относился со сдерживающей иронией. Кажется, больше всего ему хотелось, чтоб нам не было скучно, тягостно и безнадежно в условиях мрачнеющего и помраченного социума. Он стремился, чтоб мы получали от литературы удовольствие и радость. И все-таки, какие-то тревожные, «профетические птицы» судьбы и смерти носились в его произведениях. И «Новый сладостный стиль», и «Кесарево свечение», и «Москва ква-ква» полны прозрачными, вырастающими тенями, которые эти пролетающие стаи слов и образов отбрасывают на землю.
Аксенова интересовала личность пассионарная, байроническая — той самой страсти, которая в классической русской литературе составила ряд «лишних людей». Постсоветские «байрониты» порой мерещились ему всюду, даже в жизненных перипетиях бывших комсомольских лидеров, меняющих судьбу при помощи баснословных капиталов (роман «Редкие земли»). Чем романтические «шери-бренди» обернулись для последних, мы сегодня наблюдаем. Не пеной по губам, а приговором Хамовнического суда прямиком в лишние люди. Жизнь богаче вымысла.
В последнем романе Аксенова речь также идет о пластических возможностях социальной перекройки личности и ее собственных мутациях. Материя детства, описанная в «Детях ленд-лиза», почему-то оказывалась для перекройщиков особо прельстительной. Первая часть романа, проходя сквозь идиллически воссозданные казанские реалии, намечает зоны взрывоопасные. Конечно же, это Казань вымышленная, врезавшаяся в авторскую память светящимися протуберанцами. Детское сознание не вмещается в систему предлагаемых компромиссов — там, в детских снах и потом, во взрослых воспоминаниях, у автора мир все равно предстанет чуть более прекрасным, загадочным и наполненным страхами, чем было на самом деле. Но опасность будущего взрыва тут вполне оправдана. Как и детский терроризм — не выдумка, а следствие лжи и насилия взрослого общества.
Сюжет жизни, данной взаймы, в аренду детям «советского рая» (был такой фильм французской поэтической волны: «Дети райка») превращен Аксеновым не в трагифарсовую авантюру, поглотившую героев «Острова Крым», а в нечто совсем иное. Тогда выкормышам тупого и бездушного режима приходилось отдавать «долги» в ситуации общей бойни и общей крови. Вторая часть романа «Дети ленд-лиза» — не трагифарс, а предчувствие грандиозного временного зияния, которое человеческое сознание испытывает в момент ухода и отпущения со всех войн, из состояния бойни. Уход куда? В ту самую архаическую «степь» хлебниковского косноязычия, которая, похоже, одна и способна отпеть человеческую жизнь. Это и собственное, аксеновское, поэтическое «косноязычие», его фамильная архаика с запутанными семейными корнями и выпрямившимися личными судьбами. Вырабатывание писателем нового образа речи, которая не обманет и на сей раз.