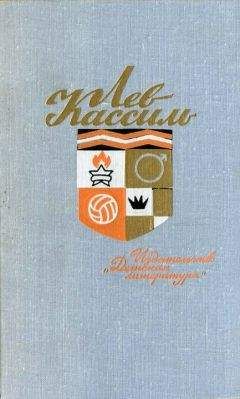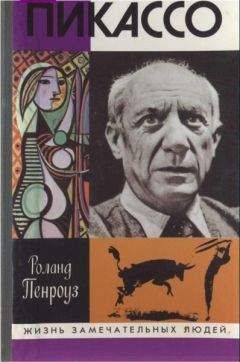Винсент Ван Гог. Человек и художник - Дмитриева Нина Александровна
Но внутренняя близость Ван Гога с его великим соотечественником, пожалуй, еще более глубока и интимна, чем близость с Милле. Как Рембрандт, Ван Гог находил высокую одухотворенность в обыденном. Как Рембрандт, отдавал всю свою любовь «обыкновенным людям». Подобно Рембрандту, воспринимал реальность как чудо, а чудо мог изображать только как реальность. «Реальное чудо» он представил в «Воскрешении Лазаря».
В выборе этого сюжета, помимо прочего, возможно, сыграла роль связь истории Лазаря с местными провансальскими легендами. По легенде, сестра воскресшего Лазаря Марта вместе с двумя Мариями — матерями апостолов — была посажена властями Иудеи в неуправляемую лодку; лодка долго скиталась по морю, пока ее не прибило к берегам Прованса. Отсюда — название городка Сент-Мари де ла Мер, якобы основанного прибывшими с моря женщинами; в местных сказаниях (отраженных в «Мирей» Мистраля) его называли также «городом трех Марий» и приписывали ему волшебные свойства. Легенда рассказывала, что сестра Лазаря до самой своей смерти жила в Провансе и, коротая время за прялкой, рассказывала местным женщинам о чудесном событии с ее братом.
Ван Гог, вероятно, слышал эти предания, и они помогали ему в воображении отождествить сестер Лазаря с типом арлезианок. Женщины на его картине имеют портретное сходство с реальными прототипами, о чем он сам недвусмысленно говорит. «Будь в моем распоряжении та модель, что позировала мне для „Колыбельной“, и другая, чей портрет, по рисунку Гогена, ты уже получил, я, без сомнения, попытался бы выполнить эту вещь в более крупном формате, поскольку персонажи в смысле характера — как раз то, о чем я мечтал» (п. 632). То есть рыжеволосая женщина в зеленом платье, приподнявшая покров с лица умершего и всплеснувшая руками, напоминает жену Рулена, а та, что стоит сбоку, черноволосая, ссутулившаяся, — мадам Жину. Если бы даже Ван Гог об этом не сказал, сходство улавливается на основании портретов этих женщин. В них, скромных арльских обывательницах, ему виделся свет вечно женственного, «нимба вечности». Одна — преданная мать, бесконечно заботливая, терпеливая, «никогда не жалующаяся», — благодатный теплый женский образ, что встает из глубины памяти при воспоминаниях детства. Другая — мечтательная, сдержанная, с грустно вопрошающим взором, как бы сжавшаяся и углубленная в свои думы.
Их-то он и сделал единственными свидетельницами возвращения к жизни мертвого. Реакции отвечают их характерам: открытому и замкнутому. Почему Ван Гог удалил фигуру мужчины, центральную в этой группе у Рембрандта? На гравюре Рембрандта мужчина — сомневающийся, не могущий поверить, что чудо произошло, что оно вообще может произойти. Его первая реакция — отрицание вопреки очевидности, его жест — отталкивающий, протестующий; он отшатнулся назад, тогда как женщины подались вперед. Этот характерно мужской скепсис Ван Гогу, в плане его замысла, был чужд и не нужен: он хотел показать женский, нерассуждающий порыв. Так как на картине нет и Христа, от которого чудо исходит, то движения женщин могут быть прочитаны не как жесты радостного изумления (радости даже и нет на их лицах), но заклинающие, призывающие жесты: сестры как будто сами вызывают брата вернуться к жизни. То есть они сами и совершают чудо. Здесь мы добираемся до сердцевины замысла Ван Гога: сказать о животворящей силе женской любви, женской самоотверженности, способной сотворить чудо. Он сделал это с предельной экспрессией и без малейшего оттенка сладости: есть что-то почти страшное во всей этой группе, в исступленном заклинании: живи! — на которое медленно, с трудом, как бы против воли поднимаясь из неведомой бездны, отзывается, начиная оживать, мертвец.
Но, без сомнения, и эта картина была, в понимании Ван Гога, утешительной. Так же как и другая работа по Рембрандту — «Ангел» (местонахождение ее ныне неизвестно).
Вдумываясь в логику процесса «копирования», которым Ван Гог занимался в Сен-Реми, в последовательность создания этих трех десятков полотен, мы убеждаемся, что тут очень мало можно отнести на долю случая: видна обдуманная программность, сквозит некое кредо. Побудительные стимулы не сводились ни к желанию «усовершенствоваться в живописи фигур», ни к переводу светотеневых эффектов на язык красок, ни даже к стремлению воссоединить старые и новые ценности. Хотя все это, безусловно, было. Но сверх того — было и еще, может быть, важнейшее, хотя прямо не высказываемое и даже маскируемое рассуждениями о «переводе»: Ван Гог в предвидении того, что срок ему остался недолгий и он уже не успеет сделать и десятой доли желаемого, намекнул на эти невоплощенные намерения серией копий. Как бы указал — что он сделал бы, если бы мог. Конечно, не буквально, но косвенно. Евангельские композиции Делакруа и Рембрандта, которыми этот цикл завершается, не означают, что Ван Гог намеревался писать картины на религиозные сюжеты — этого он не хотел, — но они, как притчи, послужили ему для синтеза, венчающего тезу и антитезу, для символического выражения своего понимания мира, места и назначения человека в этом мире.
Во всем, что делал Ван Гог в Сен-Реми, сквозит то подспудно, то выходя на поверхность ностальгическая струя — тоска по родине, по северу, по былым замыслам.
Он просит брата и сестру присылать ему его старые нюэненские и даже гаагские рисунки. «Хотя они сами по себе не хороши, они могут освежить мои воспоминания и пригодиться для новых работ» (п. 629-а). Ему хотелось заново написать церковь на нюэненском кладбище, пасторский сад и особенно «Едоков картофеля». Но это не получилось или не успелось. Новые «Едоки картофеля» остались только в эскизных рисунках. Насколько можно по ним судить, эффект света лампы в темной комнате устранялся, предполагалось дневное освещение, хотя интерьер тот же, примерно та же и композиция, с той разницей, что женщина, разливающая кофе, стоит возле стола, а не сидит. Очевидно, Винсент хотел и свою старую работу перевести, как композиции Милле, с языка светотеневых «валеров» на язык открытого цвета. Однако тут ему приходилось труднее: крестьянская трапеза прочно ассоциировалась с сумрачной поэзией глубоких теней.
Есть ряд карандашных вариантов, где композиция другая, варьируется количество фигур, их расположение: то за столом сидит одна девочка, а мать, подходя, наливает ей чай, другая женщина с ребенком сидит отвернувшись; то за столом двое — мужчина и женщина, над разведенным огнем подвешен чайник. Фигуры намечены суммарно и обобщенно, подчеркнуто округлыми и вместе с тем нервными, резкими абрисами — характерная поздняя «скоропись» Ван Гога: этими круглящимися и выгибающимися кривыми, чередуя их с отрывистыми штрихами, он молниеносно фиксировал и натурные мотивы, и композиционные идеи.
Отличается большей тщательностью и законченностью рисунок «У очага»: может быть, Ван Гог мыслил его как эскиз новой картины о «крестьянах у себя дома», не повторяющей «Едоков». Здесь — очень большой пылающий очаг с подвешенным чайником и блюдами на полке, пространство большое, просторное, как-то не вяжущееся с представлением о деревенском интерьере. Четыре фигуры симметрично расположились по обе стороны очага: слева двое мужчин покуривают трубки, справа — две женщины, одна с ребенком на коленях. Посередине прямо перед огнем греется кошка.
При видимой бесхитростности это странная композиция. Странна строгая симметрия, обычно Ван Гогом избегаемая, и преувеличенный по размерам куполоподобный очаг, находящийся словно в пустынном зале средневекового замка, а не в жилой крестьянской горнице. Сцена у камелька должна бы выглядеть уютно, а выглядит скорее тревожно, как мираж, который вот-вот исчезнет. Нет, это не те брабантские крестьяне, не то жилище, не тот очаг, не тот пусть суровый, но человечный сельский быт — это сон о нем, томление по нему, ускользнувшему, отдалившемуся, теряющему реальные формы.
«Как в тусклом зеркале, в смутных очертаниях прошлое остается с нами. Жизнь с ее разлуками, отъездами, тревогами перестает быть понятной. Для меня жизнь может остаться одинокой. Те, к кому я был больше всего привязан, — я больше не вижу их иначе, как в зеркале своей памяти, смутно» (п. 641-а).