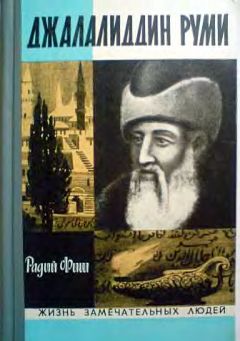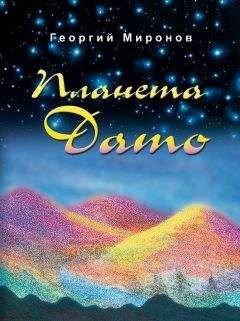Радий Фиш - Джалалиддин Руми
Он поднял голову. Нашел среди звездного океана свою едва заметную светящуюся точку — недавно с одним из мюридов отца он сам составил свой гороскоп. И, глядя на нее, попытался угадать, что ждет его через неделю, через год, через десять лет на бесконечном, как вечность, пути.
–Их подняли затемно. Во дворе вьючили верблюдов: по две кипы с книгами на вьюк, в каждом — по восемь пудов. Рев верблюдов мешался с ржанием коней, возгласами вьючников. Сеид Бурханаддин то степенно беседовал со старейшиной караванщиков, то срывался с места помогать вьючникам, взваливавшим груз на лежащих верблюдов, словно самая жизнь его зависела от сохранности груза. Но Сеид провожал их только до первой стоянки, а затем возвращался к себе на родину, в Термез.
Один лишь отец в огромной чалме и простом стеганом халате среди всей этой суеты стоял молчаливый и недвижный, пока ему не подвели коня под лиловой попоной. Сеид поддержал стремя, и тогда он легко, словно полжизни провел на коне, вскочил в седло. Прямой, несмотря на свои шестьдесят с лишним лет, и все такой же отрешенный, он выехал со двора.
Улица была запружена. Верблюды под грузом связаны цепочкой, от подбрюшного ремня — к кольцу в ноздре. Ни бахромы на уздечках, ни ковровых кистей, ни пунцовых султанов на головах. Серые простые покрывала да мешковина и кожа вьюков. Сразу видно, не бренные богатства мира, а вечные суровые истины, как груз души, увозит с собой хозяин каравана. Лишь на иноходцах меж горбами были легкие наметы, обвешанные белым холстом — от яростного солнца, секущего песка пустынь и любопытных взглядов. Для женщин, детей и немощных. Как ни противился Джалалиддин, по настоянию матери пришлось ему путешествовать в одном из таких наметов.
Отец занял свое место среди мюридов — справа от него Сеид Бурханаддин, за ними верхами шейхи Хаджеги, Хаджаджи Наджадж, факих Ахмед, самаркандец Шарафаддин Лала.
Старейшина поднял руку. Тронулись ослы караванщиков, кони отца, его мюридов.
Караван-вожатый дернул аркан, привязанный к ноздре первого верблюда, подоткнул другой конец аркана под себя. И вот уже раздался первый удар колокола на шее заднего, замыкающего шествие верблюда.
Под звон этого колокола пройдут долгие годы, прежде чем мальчик из Балха станет Джалалиддином Руми, поэтом и мудрецом, которым будет гордиться человечество. Но, и обретя себя, будет он слышать этот мерный звон, как напоминание о бесконечности и прерывистости времени и о скупости, с которой оно отпущено человеку.
ГЛАВА ВТОРАЯ
КОНЦЫ И НАЧАЛА
Для тех, кто к совершенству путь прошел,
Неведение знанием бывает.
А знанье, что невежда приобрел,
В невежестве его изобличает.
Джалалиддин РумиИ снова был день. В другом краю, за сотни фарсахов и десятки лет отстоявший от того дня, когда он глядел в последний раз на город Балх с крыши отчего дома. Да что там десятки лет? Жизнь прошла.
И вся она уместилась в одной строке: «Я был сырым. Созрел. Сгорел».
Среди друзей и учеников, что сидели полукругом, поджав под себя ноги, и внимали сейчас его поучению, не было уже ни одного из тех, кто был знаком тогдашнему двенадцатилетнему мальчику. Но что с того, если свет многих лиц, которые давно сгнили в земле, он носит в самом себе?
И этот день уже меркнул за окнами. Заголубели на стенах зеленые изразцы, забились на карнизы под куполом горлицы, воркуя, укладываются на ночлег.
Он оглядел так хорошо знакомые ему лица. С нежностью остановил взор на Хюсаметтине Челеби — скоро минет десять лет, как в нем, точно в зеркале, видит он свое ничем не замутненное отражение. Не свою чалму и седую бороду, не удлиненный нос, не миндалевидные глаза, нет, это все случайности, — а самую свою сущность: каждое движение чувства, мысли.
И Хюсаметтин уже старик. А пришел он еще молодым. Ясный ум, уравновешенность и самоотверженность — все в нем было гармонично, благообразно, но не благостно. Здоровая натура ремесленника, живущего трудом рук своих.
И если ремесленникам-ахи был обязан Джалалиддин тем, что в этом городе не содрали с него на базаре шкуру, как некогда с великого поэта и мудреца Халладжа в Багдаде, не побили камнями за еретические стихи, а слушали и почитали, то Хюсаметтину Челеби обязан он своей последней книгой двустиший — Месневи, в которой, если только они успеют, будет рассказана не жизнь его, уместившаяся, в сущности, в единой строке, а его познания и прозрения, весь его путь к Истине и степени ее постижения, все, что он понял, все, чем стал и что, быть может, останется после него на земле.
За долгие годы работы над книгой Хюсаметтин не выказал и признака утомления, отдал всего себя целиком, точно так же как в молодости с радостью отдал все нажитое его отцом — шейхом ахи, все заработанное своим трудом, чтобы в трудное для учителя время помочь ему выстоять.
Вот уже много лет Джалалиддин мог одновременно говорить и видеть себя со стороны, в одно и то же время думать о разном. И, продолжая поучение, он улыбнулся мысленно, припомнив, с какой деликатной хитростью выбрал Хюсаметтин удобный случай, чтобы высказать свое желание, ибо помнил, что удобный случай подобен облаку — набежало и нет его. Выбрал вечер, когда остались они наедине, и молвил, опустив глаза к полу: «Газели ваши собраны в десятки диванов. Свет их тайны озарил Восток и Запад. Оставьте же теперь влюбленным и друзьям книгу, подобную тем, что сложили Санайи и Аттар, дабы мюриды никогда не были бы лишены вашего присутствия». Высказать словами его собственную мысль, которая хоть и давно зрела в нем, но которую он до поры до времени таил от самого себя! Только тот, кто слился с другом в единое существо, может быть способен на такое!
В тот вечер Джалалиддин вынул из складок чалмы вчетверо сложенный лист, на котором были записаны его собственной рукой первые восемнадцать строк: «Внемли! То ная тоскующий глас! О муках разлуки ведет он рассказ…» И вручил его Хюсаметтину: «Хорошо, Челеби, я буду говорить, а ты записывать!»…
Годы, минувшие с той поры, — лишь внешнее проявление их духовного единства. С того дня не расставался более Хюсаметтин с тростниковым пером в медной трубке, чернильницей, песочницей у пояса и свитком бумаги в рукаве. С той поры они повсюду бывают вместе. И где застанет учителя вдохновение — на улице, в бане, на собрании друзей или на радении, на базаре, в саду или в мечети, записывает Хюсаметтин за ним строки стихов, как только они родятся.
Но, быть может, еще и потому с такой нежностью глядел Джалалиддин (теперь все именовали его «Мевляна» — «Наш господин») на своего старшего ученика и наместника, что тот был его последней любовью, подобной звезде, глядя на которую путник, проделавший долгий и трудный путь, идет в ночи к последней стоянке. В Хюсаметтине совместилось для него все то, что сделало его таким, каким он стал, вернее, таким, каким он есть, ибо твердо уверен был Джалалиддин, что все развитие человека на пути к совершенству есть не что иное, как возвышение самого себя до своей собственной истинной сущности: и молоко его матери Мумине-хатун, и непреклонность отца — Султана Улемов, — и истовость наставника Сеида Бурханаддина, и ослепительный солнечный свет Падишаха Дервишей Шемса из Тебриза, и печальное, утоляющее боль и страсти, подобно сиянью луны, свечение ювелира из Коньи, Саляхаддина, и мягкая нежность и благоговение родившей ему двух сыновей Гаухер-хатун, той самой девочки из Балха, которая вместе со всеми этими лицами давно стала прахом, а теперь слилась с ними вместе в Хюсаметтине Челеби, что, как обычно, сидит впереди остальных, весь внимание, и заносит на бумагу каждую его мысль, каждое слово… Совсем так же, как некогда внимал сам Джалалиддин своим наставникам.