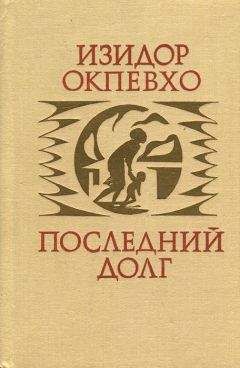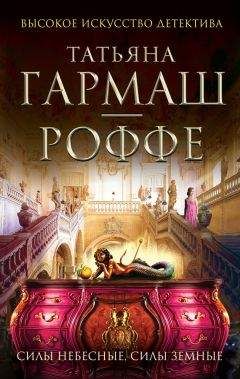Михаил Воронецкий - Мгновенье - целая жизнь
— Значит, — неожиданно для себя поднялся Феликс, — будущее нашего народа может быть связано только с социализмом. И если мы живем для будущего нашего народа, то мы всеми силами должны стремиться утвердить в стране социалистический строй! А поскольку шляхетско-капиталистическая часть общества добровольно не сдаст свои позиции, неизбежно встает вопрос о грядущей революции. Это должен учитывать комитет…
— Если таковой, конечно, имеется, — вставил Станислав Пацановский. Братья Домбровские и Гандельсман рассмеялись. Но Феликс не обиделся. Он оглянулся на Людвика Савицкого, сидевшего за столом рядом с Пухевичем, и добавил: — Если комитета нет — комитет должен быть создан.
Поднялся стройный, элегантный Центнарович.
— А скажите, пан кандидат, — обратился он к Пухевичу, — чем объяснить, что в программе отсутствует тезис о необходимости захвата власти рабочим классом, нет ни слова о роли государства, о его функции после революции… Ничего не говорится о замене буржуазной административной машины народной властью… А ведь, как известно, эти идеи высказывались еще Марксом и Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии».
— Это все так, — весьма уважительно проговорил Пухевич. — Но сейчас главное — пропаганда социалистических идей, экономическое освобождение трудящихся. И вообще — многие пункты Брюссельской программы я считаю ошибочными.
— Например?
— Можно и примеры привести. Во-первых, я считаю принципиальной ошибкой, что в этой программе нет ни малейших намеков на сочетание борьбы за социальное освобождение с национально-освободительной борьбой.
— Пан кандидат абсолютно прав, — сказал, ни на кого не глядя, Савицкий, — как ни крути, а национальный вопрос не обойдешь, он был и останется самым актуальным политическим вопросом.
— Да, да, и я целиком с этим согласен, — воскликнул Пацановский, — пока Польша не освободится от гнете самодержавия, мы не имеем права игнорировать национальный вопрос.
— Иначе нас не поймет народ, — тихо, но веско резюмировал Савицкий.
— И потом, учтите, — вставил Пухевич, — Брюссельская программа даже не упоминает о самостоятельности революционных движений Литвы, Украины, Белоруссии…
— Но это же само собой разумеется, — кипятился Феликс. — Когда совершится революция, все вопросы разрешатся сами собой, все беды и несправедливости будут ликвидированы, а социальная революция одновременно ликвидирует как социальный, так и национальный гнет.
И тут вмешался в спор молчавший до сих пор молодой рабочий:
— Погодите, — громко сказал он, — а почему все надежды возлагаются на революцию? Почему нельзя еще до революции добиваться самых обыкновенных политических свобод? Свободы слова, собраний, рабочих профсоюзов?
— Да потому, что русское правительство никогда не пойдет даже на это.
— Самодержавие изживает самое себя, — сказал Пухевич, — и наша задача сейчас — вести пропаганду, Конить силы, добиваться социальных преобразований.
— Легальным путем? — иронически улыбнулся Феликс.
— Да, в том числе и легальным путем. Организовывать рабочих, поддерживать их экономические требования, бороться за сокращение рабочего дня, страхование, повышение зарплаты…
— Но как?
— Путем забастовок на фабриках и заводах, а если надо, то и путем всеобщей стачки… Ну, кто мне докажет, что я не прав?
В голосе Казимежа было столько убежденности, что никто не решился возразить.
Но после некоторого молчания поднялся Вацлав Гандельсман:
— Уповать на широкое участие народа в революции, по крайней мере, наивно.
Ян Пашке спросил:
— Но позвольте, пан Гандельсман… Вы-то себя считаете революционером?
— Разумеется.
— Тогда каким образом без народа, как я вас понял, вы надеетесь переустроить общество?
— Путем захвата власти группой хорошо подготовленных профессиональных революционеров, — спокойно ответил Гандельсман, — группой людей, которые лучше других знают, что надо делать. А поэтому революционная организация должна быть замкнутой, строго законспирированной, крепко спаянной внутренней дисциплиной. Она должна совершенствовать себя, а не растворяться в массах и не тратить силы на пропаганду.
Феликс и Савицкий, лучше других знавшие Вацлава, только улыбнулись, но в спор ввязываться не стали. Знали, что Гандельсман меняет свои идейные взгляды в зависимости от того, какая последняя книжица им прочитана.
Перед тем как разойтись, Феликса придержал за локоть Ян Пашке:
— Крепко ты мне понравился своим выступлением, — сказал Пашке искренне. — Умеешь говорить. А я пока стараюсь учиться и все понять. Ты свой экземпляр куда дел?
— Отдал Савицкому.
— А я для себя переписал, хочу получше вчитаться и кое-кому из нашего брата втолковать. — Пашке вынул из внутреннего кармана куртки исписанные крупным почерком листки. — Особенно мне нравится вот это… «Мы также глубоко верим, что польский народ, приведенный в движение во имя социально-революционных принципов, проявит непобедимую силу и непреодолимую энергию в борьбе с захватническим правительством, которое к экономической эксплуатации добавило неслыханное угнетение национальности». Ой как хорошо, как крепко сказано! Да верить надо глубоко, только так и не иначе…
— Это ты очень хорошо сказал, — одобрил Феликс, — только, Ян, не вынимай эти листки на улице. Отберут городовые — и загремишь на каторгу по сибирскому этапу.
— И то верно, — сказал Пашке, пряча листки в карман.
Расходились, как всегда, поодиночке. Или — по двое.
Феликс вышел с Розалией. В последнее время они часто уходили вместе. Шагах в десяти впереди негромко разговаривали Пухевич и Савицкий. По отдельным словам можно было понять, что они все еще говорят о программе…
— Не будем им мешать, — сказала Розалия.
— Конечно, — шепнул Феликс и взял девушку под руку.
Проходя Замковую площадь, они приостановились. Со стороны Пражского предместья, темнеющего за Вислой, неестественно огромным желтым пятном восходила луна, и ее свет, рассеянный и смутный, возвращал силуэтам Старого города их средневековую таинственность. Из пронзенного лучами сумрака, как из темной воды, всплывали неровные контуры башен предмостного укрепления Барбакан, остатки крепостной стены возникали в своей загадочной руинности, обозначились древние переходы и лестницы, длинные нависающие своды, ведущие куда-то во мглу, арки, под которыми всадникам приходилось, наверное, нагибать голову; фантастические статуи, украшающие карнизы домов времен первого владетеля Варшавы каштеляна Варцислава, чье имя сохранилось только в легендах и преданиях.