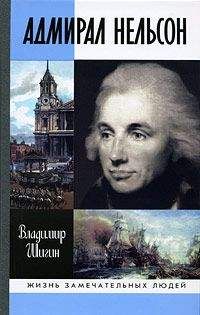Юлия Андреева - Любящий Вас Сергей Есенин
Из письма С. Есенина сестре Кате[39]. 25 апреля 1922 года. Москва.
Катя! Оставляю тебе два конверта с деньгами. 20 миллионов тебе и сто миллионов передай отцу[40]. (В России страшная инфляция. Деньги родителям нужны отчаянно, сгорел дом в Константиново).
Пусть он едет домой и делает с ними, что хочет, большего я сделать ему не могу.
Тебе перед отъездом оставлю еще.
А вот еще примечательный перевод, но уже не родственнику:
«Милый друг! Все, что было возможно, я устроил тебе и с деньгами, и с посылкой от «Ара». На днях вышлю еще 5 миллионов, – пишет Есенин Николаю Клюеву[41]. – Недели через две я еду в Берлин, вернусь в июне или в июле, а может быть, и позднее. Оттуда постараюсь также переслать тебе то, что причитается со «Скифов». Разговоры об условиях беру на себя, и если возьму у них твою книгу, то не обижайся, ибо устрою ее куда выгодней их оплаты.
…Очень уж я устал, а последняя моя запойная болезнь совершенно меня сделала издерганным, так что даже и боюсь тебе даже писать, чтобы как-нибудь беспричинно не сделать больно».
Срочное денежное вспоможение было отправлено после получением Сергеем Александровичем следующего письма:
Я погибаю, брат мой, бессмысленно и безобразно». Там же: «…теперь я нищий, оборванный, изнемогающий от постоянного недоедания полустарик. Гражданского пайка лишен, средств для прожития никаких. Я целые месяцы сижу на хлебе пополам с соломой, запивая его кипятком, бессчетные ночи плачу один-одинешенек и прошу Бога только о непостыдной и мирной смерти.
Не знаю, как переживу эту зиму. В Питере мне говорили, что я имею право на академический паек, но, как его заполучить, я не знаю. Всякие Исполкомы и Политпросветы здесь, в глухомани уездной, не имеют никакого понятия обо мне, как о писателе, они набиты самым темным, звериным людом, опухшим от самогонки».
Глава 9. Брак
Впрочем, не слишком ли много мы говорим о материальной стороне дела? Хотя вряд ли кто-нибудь из наших читателей удивится, что перед планируемой длительной заграничной поездкой люди крутятся, стаптывая ноги о пороги различных контор, пытаясь в последний момент уладить свои дела.
Тем не менее, мы оторвемся от всей этой бухгалтерии, дабы перейти непосредственно к бракосочетанию наших героев.
– Чувство Есенина к Айседоре, которое вначале было еще каким-то неясным и тревожным отсветом ее сильной любви, теперь, пожалуй, пылало с такой же яркостью и силой, как и любовь к нему Айседоры, – продолжает 14. Шнейдер.
Ранним солнечным утром[42] мы втроем отправились в загс Хамовнического Совета, расположенный по соседству с нами в одном из пречистенских переулков, – пишет 14. Шнейдер. – Загс был сереньким и канцелярским. Когда их спросили, какую фамилию они выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию – «Дункан-Ксенин».
Так и записали в брачном свидетельстве и в их паспортах. У Дункан не было с собой даже ее американского паспорта, она и в Советскую Россию отправилась, имея на руках какую-то французскую «филькину грамоту». На последней странице этой книжечки была маленькая фотография Айседоры, необыкновенно там красивой, с глазами живыми, полными влажного блеска и какой-то проникновенности. Эту книжечку вместе с письмами Есенина я передал весной 1940 года в Литературный музей.
– Теперь я – Дункан! – кричал Есенин, когда мы вышли из загса на улицу.
Накануне Айседора смущенно подошла ко мне, держа в руках свой французский «паспорт».
– Не можете ли вы немножко тут исправить? – еще более смущаясь, попросила она.
Я не понял. Тогда она коснулась пальцем цифры с годом своего рождения. Я рассмеялся: передо мной стояла Айседора, такая красивая, стройная, похудевшая и помолодевшая, намного лучше той Айседоры Дункан, которую я впервые, около года назад, увидел в квартире Гельцер.
Но она стояла передо мной, смущенно улыбаясь и закрывая пальцем цифру с годом своего рождения, выписанную черной тушью…
– Ну, тушь у меня есть… – сказал я, делая вид, что не замечаю ее смущения. – Но, по-моему, это вам и не нужно.
– Это для Езенин, – ответила она. – Мы с ним не чувствуем этих пятнадцати лет разницы, но она тут написана… и мы завтра дадим наши паспорта в чужие руки… Ему, может быть, будет неприятно… Паспорт же мне вскоре не будет нужен. Я получу другой.
Я исправил цифру.
Насколько быстро были выполнены все паспортные формальности советскими учреждениями, настолько долго тянули с визами посольства тех стран, над которыми Дункан и Есенину предстояло пролетать.
На самом деле не так уж и долго, С. Есенин и А. Дункан вылетели из Москвы в Кенигсберг уже 10 мая 1922 года. Впрочем, это для нас, людей XXI века, неделя ожидания визы, считай, необыкновенно повезло. Для нетерпеливой Дункан, которая привыкла, что, для того чтобы отправиться в путешествие, необходимо собрать чемоданы, купить билет и добраться до вокзала, и которую ждут театры, антрепренеры и публика, промедление смерти подобно. Впрочем, я напрасно прервала рассказ Ильи Шнейдера.
… Отлет с московского аэродрома был назначен на ранний утренний час.
Есенин летел впервые и заметно волновался. Дункан предусмотрительно приготовила корзинку с лимонами:
– Его может укачать, если же он будет сосать лимон, с ним ничего не случится.
В те годы на воздушных пассажиров надевали специальные брезентовые костюмы. Есенин, очень бледный, облачился в мешковатый костюм, Дункан отказалась.
Еще до посадки, когда мы все сидели на траве аэродрома в ожидании старта, Дункан вдруг спохватилась, что не написала никакого завещания. Я вынул из военной сумки маленький голубой блокнот. Дункан быстро заполнила пару узеньких страничек коротким завещанием: в случае ее смерти наследником является ее муж – Сергей Есенин-Дункан.
Она показала мне текст.
– Ведь вы летите вместе, – сказал я, – и, если случится катастрофа, погибнете оба.
– Я об этом не подумала, – засмеялась Айседора и, быстро дописав фразу: «А в случае его смерти моим наследником является мой брат Августин Дункан», поставила внизу странички свою размашистую подпись, под которой Ирма Дункан и я подписались в качестве свидетелей.