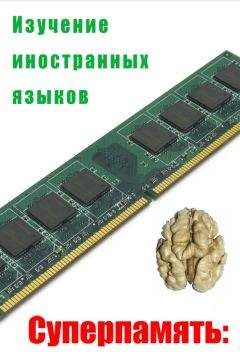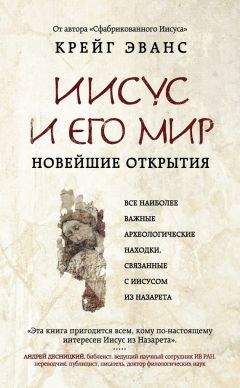Георгий Мунблит - Рассказы о писателях
Кончив читать, он обвел нас взглядом и ухмыльнулся.
- Неплохих стихов, а? Как вы считаете?
У нас было принято в ту пору, для смеха, строить фразы в родительном падеже. Одесситы высмеивали так своих земляков, а кроме того, печальную известность приобрела незадолго перед тем книжонка какого-то стихоплета, выпустившего ее в собственном издании и за собственный счет. Книжонка называлась «Твоих ночей», и это очень нас всех потешало. Но помню, как поразил меня тогда в Багрицком внезапный переход от взволнованного, увлеченного чтения великолепных стихов к грубоватой и непритязательной шутливости. Мне еще только предстояло узнать, что это была обычная его манера. Уж очень он боялся всякого проявления сентиментальности и по-юношески, путая чувство с чувствительностью, считал необходимым прикрывать растроганность ироническим балагурством.
- Прочтите ему «Стихи о соловье и поэте», - сказал
Дементьев, указывая на меня. - Я ему их читал, и они ему не понравились.
- Лучше я прочту Киплинга, - ответил Багрицкий и вдруг, обращаясь к кому-то за перегородкой, закричал резким, пронзительным голосом: - Ли-да! Если придет Севка, не пускай его сюда! - И, обращаясь к нам, добавил: - Я хочу вам прочесть длинное стихотворение, чтоб вы знали, какие на свете бывают стихи, а если появится этот разбойник, цельность художественного впечатления будет нарушена.
«Цельность художественного впечатления» - тоже была цитата. На программках Московского Художественного театра было тогда напечатано, что публику просят не аплодировать до конца спектакля, чтобы не нарушать эту самую цельность, и нам это тоже казалось очень смешным.
Багрицкий откашлялся, подмигнул Дементьеву и сейчас же, словно сняв с лица одну маску и надев другую, начал читать.
Он читал «Балладу о Востоке и Западе» в переводе Елизаветы Полонской, и читал так, что чтению этому мог бы позавидовать самый талантливый исполнитель. Но самое странное, что мы в ту пору не очень хорошо понимали это. Скажи нам кто-нибудь, что через несколько лет Качалов будет подражать Багрицкому, читая его стихи, мы бы ни за что не поверили, хотя мне и сейчас памятна молитвенная тишина, какая воцарилась в комнате, когда, полузакрыв глаза, раскачиваясь всем телом и скандируя каждый ударный слог, он прочел вступление к киплинговской балладе.
Потом было беспорядочное, совершенно студенческое чаепитие.
Жена Багрицкого Лидия Густавовна, худенькая молодая женщина в учительских, очень серьезных очках, внесла в комнату большой цветастый поднос, уставленный разнокалиберными чашками, кружками и стаканами.
Она выглядела единственным взрослым человеком в нашей мальчишеской шумливой гурьбе, и мы сразу же присмирели в ее присутствии.
Вслед за матерью в комнату ворвался смуглый, весь исцарапанный пятилетний чертенок, очень похожий на отца и очень по-взрослому разговаривающий.
После чая кто-то предложил покататься на лодках.
Надо сказать, что Кунцево в те годы, совершенно как Сокольники в чеховские времена, было дачей. Там имелся настоящий лес, лодки на реке, далекий горизонт, тишина.
Лидия Густавовна не пошла с нами. После нашего набега нужно было убрать комнату, вымыть посуду, накормить и уложить ребенка, да мало ли еще бывает забот у жены поэта, - и мы снова стали юнцами, шумливыми, отрешенными от житейских дел, смешливыми, способными прослезиться от удачной стихотворной строки.
Когда спустились к реке, уже начало вечереть. Я оказался в одной лодке с Багрицким. Он внезапно развеселился, принялся учить нас грести, потом спел бандитскую песню, из которой у меня до сих пор сохранилась в памяти строфа: «То не черный ворон вьется, не соловушка свистит, - не хотелось, а придется кровью травку оросить...»
Послушав эту грустную песню, все замолчали.
И тогда Багрицкий вдруг предложил:
- Хотите, я вам прочту свои новые стихи? - И, не дожидаясь нашего согласия, стал читать начало «Думы про Опанаса».
Во второй лодке услышали его голос, еле слышно подплыли к нашей, и обе лодки медленно заскользили по красной закатной реке, окаймленной черными, опрокинутыми в воду деревьями.
В то лето было написано только начало поэмы. Опанас еще только рассказывал в нем Нестору Махно про коммуниста Когана, еще мечтал о тихой селянской жизни, еще была повита туманом Опанасова доля, но уже зловеще и грозно звучало описание внезапного превращения, которое претерпел крестьянский сын, став махновским сподвижником:
Зашумело Гуляй-поле
От страшного пляса, -
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса.
Опанас глядит картиной
В папахе косматой,
Шуба с мертвого раввина
Под Гомелем снята.
Шуба - платье меховое -
Распахнута - жарко.
Френч английского покроя
Добыт под Вапняркой.
На руке с нагайкой крепкой
Жеребячье мыло,
Револьвер висит на цепке
От паникадила...
...Стоном стонет Гуляй-поле
От страшного пляса, -
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса...
Когда Багрицкий кончил читать, никто не проронил ни слова. Только через минуту все заговорили, но не о стихах, а о чем-то другом. И Багрицкий, словно это не он только что читал прерывающимся от волнения, идущим от самого сердца голосом свою удивительную поэму, принялся хохотать, рассказывать анекдоты, грубовато острить.
Ему был не нужен разговор о его стихах. Он не придавал им значения.
И тогда Дементьев, наклонившись ко мне и поблескивая глазами, спросил:
- Ну как?
Я ничего ему не ответил. Да и что мне было говорить? Ведь я впервые так близко, совсем рядом с собой, увидел Поэзию, а об этом простыми словами не скажешь.
* * *
Мне трудно вспомнить сейчас, кому пришла в голову эта странная мысль - то ли редакционным деятелям, то ли кому-то из молодых литераторов, роившихся вокруг тогдашнего издательства «Московский рабочий», но в течение недели мысль эта приобрела вполне реальные очертания. Был составлен договор, в котором «издательство поручало», а несколько человек из нашей компании «брали на себя обязательство» препарировать для юных советских читателей целый ряд переводных классических приключенческих книг Стивенсона, Густава Эмара, Фенимора Купера и чьих-то еще. Препарирование должно было производиться по уже имеющимся старым переводам и состоять в сокращении «излишних длиннот» и «обработке» мест, содержащих безнравственные, на тогдашний комсомольский взгляд, воззрения авторов упомянутых сочинений. Попутно следовало подправить огрехи собственно переводческого характера, причем следует признаться, что никто из «взявших на себя обязательство» языками как следует не владел.