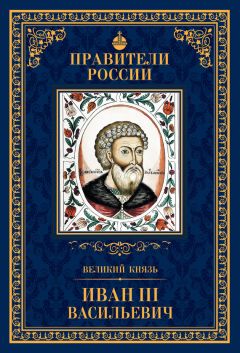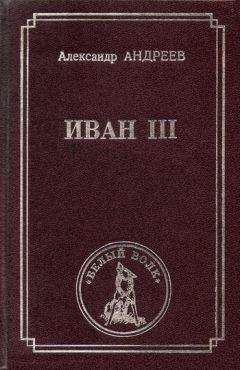Андрей Меркулов - В путь за косым дождём
Но я помню и другой вечер, когда Щербаков вдруг открылся мне весь во время одного из самых сильных переживаний, которые выпадают на долю тех, кто работает в воздухе. По совпадению этот день его жизни оказался и значительным и трагичным...
Как начинающий испытатель, Щербаков занимался тем, что летал на киносъемку. В современной авиации все существенное снимается на пленку. Другой самолет работал, а Щербаков вылетал с кинооператором на относительно простой реактивной машине. И, как всякий начинающий испытатель, он с нетерпением ждал случая, чтобы подменить кого-либо на сложной машине. В этот день случай представился. Ему позволили вылететь на скоростном истребителе. А когда он вернулся, упоенный первым полетом на новой машине, ему сказали, что произошло. Паршин заменил его на киносъемке и разбился, едва поднявшись над аэродромом. Паршин был опытный мастер, дважды Герой, ветеран воздушной войны, испытатель со стажем.
Летчиков не заставляют летать. Они идут на это сами. От желающих стать испытателем, а тем более космонавтом, у нас нет отбоя. Все это чушь, когда обыватель, не рискующий летать даже пассажиром, брюзжит, что им за это немалые деньги платят. Зарабатывать легкие деньги и в большем размере есть еще, к сожалению, много способов.
Анохин давно уже не нуждался ни в чем, но в день пятидесятилетия, когда друзья ждали, что он при своем возрасте, наконец, откажется от опасной работы, — мало ли дел на земле, — он встал и сказал, что не откажется. Он просто не может без этого.
«Призрачные острова» — это только красивое название вполне реальных дел. Авиационная техника нелегко открывает свое новое. В работе пилота эта реальность романтических дел граничит с опасностью смерти. Но пилот идет на это потому, что авиационному инженеру мало чертежной доски, он должен побывать в воздухе. Испытатель — это инженер, вооруженный опытным самолетом, со всеми вытекающими последствиями. Он знает, что без него невозможно развитие авиации. Он видит в этом свое призвание разведчика.
Не каждое событие в жизни летчика кончается тем, о чем можно рапортовать в газетах, но оно может быть не менее значительным для его внутреннего роста.
* * *Я не знаю, сколько книг написано о море. О его притягивающей красоте и жестокой силе. Но я знаю, что о небе, которое стало полем новых дорог и надежд, написано меньше.
Есть на Далёком обледенелом Шпицбергене деревянный крест, где безымянные суровые поморы когда-то сделали ножом такую надпись: «Тот, кто бороздит море, вступает в союз со счастьем, ему принадлежит мир, и он жнет не сея, ибо море есть поле надежды».
Клещинский был разведчиком поля надежды. Одним из первых на дорогах неба. Он тоже вступил в союз со счастьем: в те первые дни, поднявшись в небо, он ощутил отравляющую власть полета и увидел, что ему принадлежит мир и это новое поле надежды.
Я хочу представить себе, что чувствовали люди, впервые сверху увидевшие облака, эти поля и айсберги из тумана, даже сейчас знакомые нам все же меньше, чем морские волны...
Настало время всерьез поговорить про облака. Только сейчас, с развитием массовой авиации, мы отвыкаем смотреть на них снизу вверх, как смотрели веками.
С детских лет у меня сохранилась привычка в трудные минуты жизни повторять про себя строки, когда-то поразившие своей чистотой:
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною...
Я люблю их за ясность и за то пронизывающее высшее мастерство, когда нельзя заменить запятую. По-моему, никто лучше не сказал про облака. Но сейчас нет Лермонтова, чтобы воспеть их сверху. Опасно подсказывать эту тему поэтам, потому что прежде всех за нее возьмутся поэты шустрые, такие, что сразу напишут цикл с борта ТУ-104, а время и облака любят иных поэтов. Но почему живописцы, повторяя облачный пейзаж с «земной» точки зрения, не возьмутся за него с высоты?
Облака стали доступны всем. Теперь мы «ходим» по ним. Авиация провозит над ними не только художника, но и бухгалтера и почтальона. Про облака, глядя сверху, можно так же много писать, как о траве или об асфальте.
В комнатах метеослужб на аэродромах хранятся в альбомах или висят по стенам портреты различных облаков. С описанием их родословной, повадок и характера, с латинскими названиями, звучными и образными, — это целая поэзия из тумана, на которую здесь, в этой комнате, летчик перед вылетом смотрит только строгими глазами дела, которому вся эта чертова слякоть может помешать.
Но потом, опять на земле, когда работа кончена, в глазах пилота остается их многотонное величие — они, кстати, и весят тысячи тонн, — причудливость небесных айсбергов и неожиданность их оттенков, которая невольно, как и на море, многих закоренелых практиков делает глубоко замаскированными поэтами.
Как-то в Арктике я подружился с командиром транспортного корабля. Я летел с ним в кабине, где и есть настоящее место писателя, не потому, что фюзеляж был всего-навсего обмерзшим, до отчаяния пустым железным сараем, а потому, что нигде не поговоришь так запросто с экипажем, как здесь или в летной гостинице, если жить с ними в одной комнате. Мы жевали бортпаек, запивая крепким чаем из термоса, и говорили о всякой всячине. Командир был немолодой, энергичный, сухощавый, чуть горбоносый, прожаренный дотемна арктическим солнцем, подвижный и очень серьезный, он даже свой экипаж с утра до вечера воспитывал и следил, что читают. Но поэзии он не признавал. Не прочел ни одной строчки, и не видно было, чтобы раскаивался.
Самолет висел над облаками. Этот пейзаж был привычен и близок летчикам; отмечая все необходимое для работы, они в то же время вбирали глазами — без слов и так же естественно, как легкими вбирают воздух для дыхания, — тонкие переливы нежных северных красок и эту бесконечную, чуть всхолмленную равнину облаков под нами, похожую на волнистое снежное поле России, где снег не бывает так плотен, сбит ветром и ровен, как в Арктике, и дальние, розовеющие от солнца гряды более высоких облаков, подобные вершинам величественных гор, на которые мы шли, повинуясь маршруту.
Связь с аэропортом кончилась. После взлета командир должен был, как обычно, до посадки передать штурвал второму пилоту. Но он не сделал этого. Молча и прямо смотрел он перед собой на приближающуюся гряду облаков, похожих на ледяные вершины, отсвечивающие розовым отблеском скрывающегося где-то за ними солнца... Безмятежное и спокойное, вставало перед нами величие мира, чистота природы, такой ясной, какой бывает она, наверное, только в прозрачном небе весенней Арктики.
Высокие облака приблизились. Первое из них приняло самолет крутой розовой грудью. Врезавшись в эту легкую воздушную массу, мы почувствовали на секунду обманчивое впечатление стремительного приближения горной вершины; потом самолет нырнул в облака, и все вокруг потонуло в сероватом, влажном даже на взгляд тумане; где-то в этой серой массе прямо перед нами обозначилось тусклым желтым пятном солнце; мы пробивались прямо на него, оно наливалось светом, и уменьшалось, и стало нестерпимо ярким, — мы вышли из облака и опять увидели солнце перед собой в открытом небе. И вновь впереди тянулась гряда похожих на снежные горы облаков. Теперь они были ниже, чем курс самолета. И тогда командир чуть отстранил от себя штурвал, машина опустилась — и снова мы понеслись на облако, подобное снежной вершине, и врезались в него. В сером тумане опять стало накаляться солнце, пока не вспыхнуло в чистом небе по ту сторону облачной гряды... Мы шли, как бы пронизывая насквозь одну горную цепь за другой. В интервалах меж облачными вершинами самолет почти скользил по поверхности туманного поля, и сразу становилась заметной скорость в триста километров в час, с которой мы стремились к следующей гряде. Все это было похоже на странную гонку среди фантастических небесных гор; вокруг нас, с обманчивым впечатлением подлинных скал, клубились лощины, и тени ложились на их уступы так же, как это бывает в горах, но все это было текучим, легким и призрачным, и только в секунду встречи с новым облаком казалось, что за ним вдруг встанет прямо по курсу твердая и беспощадная скала...