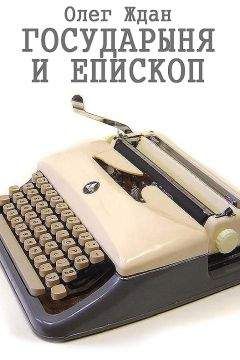Владимир Рудный - Долгое, долгое плавание
Исаков всегда с ревнивой пунктуальностью относился к своему дореволюционному прошлому и к объяснению своей позиции в семнадцатом году, отвергая, по его же выражению, и «выгодные преувеличения» и «неприятные преуменьшения». Вскоре после Великой Отечественной войны, когда «Правда» поместила среди фотографий маршалов и адмиралов — полководцев Победы — и его портрет, ему показали рукопись очерка Вс. Вишневского о нем. Его замечания отличались дотошностью, но и желанием не преувеличивать свои юношеские поступки. Допустим, такого рода: «Звание отца — «почетный гражданин», как и «крестьянство» матери, — не этим силен…» Или: «Бои в Рижском заливе начались 10 октября, закончились 16. Хорошо помню Октябрь в Гельсингфорсе. Поэтому 3 декабря на Кассарском плесе быть не мог», — это чтобы не приписывали лишнего.
Семнадцатый год в одной из заметок «К биографии» оценен им «школой I и II ступеней». «Много позже товарищи, не знавшие моего прошлого, — писал он, — спрашивали, что побудило меня еще в феврале стать на сторону народа, а после Октябрьской революции пойти на первый же призыв Советской власти. Отвечаю: что помогло мне — отсутствие какого бы то ни было имущества; жил на жалованье мичмана и содержал свою старую мать. Не только у меня, но и в роду ни у кого не было ни капиталов, ни недвижимости. Сестра служила счетоводом на железной дороге, брат — в армии. Второе — недворянское происхождение»…
В канун Февральской революции старший унтер-офицер первой роты ОГК Иван Исаков не помышлял о свержении самодержавия. Неудовлетворенность бездарным руководством войной, возмущение казнокрадством и предательством в высших сферах, ощущение развала, краха пронизало все слои общества, но старший унтер-офицер ОГК, жаждущий поскорее получить погоны мичмана, отправиться в действующий флот, навести там порядок и отдать жизнь за Россию, был в это время больше всего озабочен экзаменами.
Выпускники ОГК знали, что командиры новостроящихся на верфях кораблей загодя интересуются их успехами, склонностями и приглядывают мичманов, пригодных на вакантные должности. Еще в шестнадцатом году на имя начальника классов пришло письмо из Ревеля от командира заложенного на верфи Беккера и К° эсминца «Изяслав» с просьбой прислать лучшего из выпускников. Всегда молодому моряку хочется заранее знать, с кем и на каком корабле предстоит начать службу. Исаков до зачисления в ОГК долго и внимательно следил по «Морскому сборнику» за разрешенной было морским начальством дискуссией между представителями Главного штаба и молодыми офицерами флота: «Какой нужен России флот?» В Главном штабе исходили из теории «владения морем» Мэхена и Коломба и считали, что надо строить эскадры линейных кораблей и тяжелых крейсеров. Молодежь доказывала, что подводные лодки, прорывающие любую блокаду и поражающие корабли любого класса, оставили позади век дорогостоящих линкоров, — надо строить побольше дешевых, но сильных эсминцев и развивать подводный флот. Когда голос молодежи, ее аргументы оказались сильнее мнения Главного штаба, дискуссии был положен конец весьма распространенным способом: наиболее рьяных противников во главе с лейтенантом Ризничем Главный штаб уволил с флота и таким образом победил своих оппонентов.
Исакова, конечно, тянуло на эсминец. «Не люблю линкоров», — сказал он пятью годами позже на Каспии в остром диалоге начальнику местной ВЧК матросу-балтийцу Панкратову. Он предпочитал после окончания ОГК попасть на один из тридцати шести строящихся эсминцев типа «Новик», тем более, что знал: на «Изяславе» впервые за счет уменьшения числа торпедных аппаратов установлено больше пушек на борту — пятипушечный бортовой залп при высочайшей быстроходности превратит корабль поистине в громоносец. Но чтобы попасть на «Изяслав», надо стать лучшим из выпускников не только по репутации, но и по итогам в аттестате. Исаков, сдав все выпускные экзамены на «12» — это был тогда наивысший балл, — вошел в первую десятку.
И вот идет неделя за неделей, а выпуска все нет. Внезапные потрясения, не предусмотренные никакими учебными программами, смешали все на свете, самых аполитичных втянули в водоворот общественной жизни. На Якорной площади в Кронштадте, запруженной тысячами матросов, гремели такие слова, каких еще не слыхивала эта крепость: «Долой самодержавие!..» В тот же день в Дерябинских казармах знали подробности всего, что произошло в Кронштадте. И не только в Кронштадте. Через два дня в Гельсингфорсе — главной базе флота, куда будущим мичманам, надев золотые погоны и кортики, предстояло явиться за назначением, — случилось такое, о чем не прочтешь ни в одном из флотских уставов. Шестидесятитысячный митинг матросов сверг вице-адмирала Непенина, известного организатора балтийской службы связи, но и свирепого монархиста, с должности командующего Балтийским флотом за то, что тот скрыл от флота весть о свержении самодержавия. На его место тут же, на Железнодорожной площади Гельсингфорса, был голосованием выбран вице-адмирал Андрей Семенович Максимов, когда-то начальник бригады новостроящихся линкоров, снятый с этой должности после конфликта с охранкой, — он защищал обвиненных в мятеже матросов. Тут же на митинге Максимов написал свой первый приказ по флоту: освободить из тюрем политических заключенных, за что новое Временное правительство окрестило его «большевиком», а «Правда» назвала «Адмиралом революции».
Где уж тут начальству заниматься выпуском молодых офицеров флота, когда флот сам выбирает командующих, одних казнит, других, «государственных преступников», выпускает на волю, да еще поднимает над кораблями, как над баррикадами, красное знамя восстания… Девятого марта гардемарины построились на плацу перед казармами, чтобы выслушать приказ — но не о выпуске, нет, — «Приказ по армии и флоту» с призывами, обещаниями и угрозами: «…Верьте друг другу, офицеры, солдаты, матросы… Не слушайте смутьянов, сеющих между вами раздор и ложные слухи… Воля народа будет свято исполнена…» На другой день — опять приказ, но не перед строем, а на стене, как листовка: «…Враг угрожает столице… Темные силы Вильгельма среди нас…» И то и другое подписано: «А. Гучков». Кто такой Гучков? Московский фабрикант, заводчик? Почему он военный и морской министр, где воевал, где плавал?
В самих классах — слухи и смута, неужели и здесь «темные силы Вильгельма»? Атмосфера — как в Технологическом. Идут жаркие споры, возникают и распадаются политические течения, выпускники рвутся на улицу, смешиваются с солдатами и рабочими, приносят в дортуары крамольные листовки и произносят такие речи, словно все давно рухнуло и никто не дорожит своей карьерой. Исаков носился по городу с митинга на митинг, еще плохо разбираясь в происходящем и соглашаясь с каждым, кто горячо и смело говорил о демократии и свободе. Красивее всех ораторствовали те, кому и при монархии жилось недурно. Матросы говорили по-разному: все требовали справедливости, но эсеры твердили о войне до победного конца, анархисты кричали, что прежде всего надо перебить всех до единого офицеров, и не признавали никакой власти над собой, даже революционной, большевики, особенно солдаты с фронта, требовали мира, братания с немцами и раздела земли — этого никак не мог понять будущий мичман, — как можно достичь мира, братаясь с врагами? При всей своей, как он писал, «склонности к большевизму» Исаков еще не понимал классовой солидарности людей в шинелях, он по-прежнему стремился в бой, на фронт.