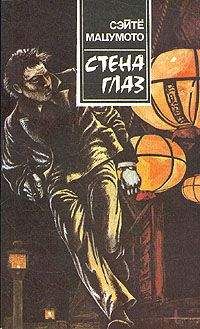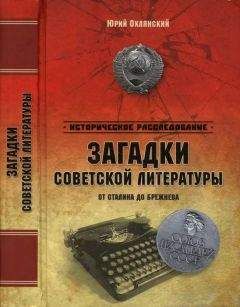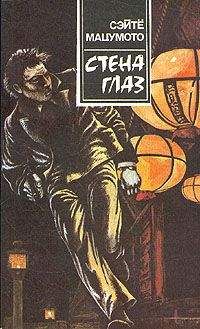Юрий Оклянский - Оставшиеся в тени
Как должен был выкарабкиваться из этого щекотливого положения суд?
На памяти был нашумевший несколько лет назад на всю Россию случай, когда суд присяжных в Петербурге в «пику властям» оправдал революционерку Веру Засулич, которая в январе 1878 года ранила из револьвера петербургского градоначальника Трепова, надругавшегося над честью ее товарища.
«Но если суд присяжных в Петербурге показал свою независимость в столь трудном политическом деле, то неужто не найдут в себе капельки самостоятельности самарские присяжные? Пусть отважатся хотя бы на простой судейский педантизм в соблюдении закона. И графу тогда из-за барьера скамьи подсудимых прямым ходом отправляться за решетку!..» — примерно так рассуждал про себя радикальный самарец.
Но, может быть, как раз в эту минуту его взгляд останавливался на нескольких угрюмых и выжидающих физиономиях, выделявшихся среди оживленной и принаряженной публики в зале.
Здесь был кое-кто из постоянной челяди графа Толстого, так называемых панков. Это были дворяне-однодворцы, которым правительство отвело землю в Самарском уезде. У большинства панков от предков остались только древние родовитые фамилии — Шаховские, Трубецкие, Ромодановские и т. д. В Самаре они были известны главным образом тем, как ловко использовал их хозяин уезда. В день дворянских выборов всю эту голытьбу, часть из которых была даже неграмотна, привозили на графских лошадях в Самару. Наряжали в выданные напрокат фраки, и они, явившись в благородное собрание, единодушно голосовали за «хозяина».
Из панков состояла также известная округе толпа графских приживальщиков и телохранителей, его «лейб-гвардия», частью представленная и ныне в зале то ли для вящего напоминания и острастки забывчивым, то ли на какую непредвиденную крайность.
Короче говоря, зал судебного заседания представлял в миниатюре всю тогдашнюю «образованную Самару». И Самара эта перед открытием заседания бурлила, жаждала подробностей, сплетничала, сочувствовала и негодовала…
Читатель, знакомый с биографией Алексея Николаевича Толстого, конечно, уже понял, что сидящий на скамье подсудимых граф — это отец будущего писателя, графиня Александра Леонтьевна — мать, а Алексей Аполлонович Бостром — отчим. Сам будущий писатель, которому тогда не исполнилось еще от роду и одного месяца, в день суда находился на руках матери в доме Бострома, за несколько десятков верст от Самары.
Как и все, кто интересуется писательской судьбой Алексея Толстого, об этой истории я слышал давно, еще до начала 60-х годов, когда затеялась книга. И тогда же она чем-то задела меня. Даже по беглым упоминаниям в биографиях писателя чувствовалось, что она не походила на заурядную семейную драму. Поиски материалов подтвердили догадки. Теперь я знаю, что об этой необычной и героической истории следовало бы рассказать даже в том случае, если бы она не была связана с обстоятельствами рождения будущего писателя.
Откуда же взялись материалы?
Из обширной литературы об А. Н. Толстом, к сожалению, удалось почерпнуть немного. Литературоведы до сих пор почти не касались обстоятельств и хода этого нашумевшего в свое время судебного процесса, если не считать кратких упоминаний о нем. Однако сведения копились. В монографиях В. Щербины «А. Н. Толстой. Творческий путь» (М., «Советский писатель», 1956) и Ю. Крестинского «А. Н. Толстой. Жизнь и творчество» (М., Изд-во АН СССР, 1960) названы два разысканных ими источника, в которых содержится, по словам В. Щербины, «чрезвычайно интересный, еще не использованный литературоведами материал». Это большие статьи о деле графа Толстого, появившиеся одновременно, в воскресенье 30 января 1883 года, в двух столичных газетах, — в петербургской «Неделе» и «Московском телеграфе».
Конечно, я прочел эти статьи.
Соблазнительно было разыскать само судебное досье. В Куйбышевском областном государственном архиве я перелистал несколько пухлых томов, страницы которых испещрены витиеватыми почерками целых поколений судейских писцов, — записи о деле графа Толстого не оказалось. Значит, не было и самого досье.
— До революции в окружном суде был пожар, тогда многое погорело! — сказала хранительница архивов. И, подумав, добавила: — Впрочем, можно еще попробовать… Поищите в архивах Казанской судебной палаты, куда входил Самарский окружной суд и постановлением которого граф Толстой был предан суду…
Я поджидал оказии на поездку в Казань, когда стало известно, что в Куйбышеве обнаружен совершенно уникальный семейный архив А. Н. Толстого.
Это было, может, одно из самых счастливых приобретений нашего литературоведения конца 50-х — начала 60-х годов. Неизвестный доселе архив хронологически охватывал более полувека — с 1867 года (письмо 12-летней гимназистки Саши Тургеневой к матери) до 1921 года (письмо А. Н. Толстого отчиму, относящееся к августу — сентябрю 1917 года, и последние документы самого А. А. Бострома). Архив содержал большую переписку родных Алексея Николаевича, в том числе письма графа Н. А. Толстого жене, первоначальный набросок его завещания, большую многолетнюю переписку Александры Леонтьевны с Бостромом, письма деда писателя Леонтия Борисовича Тургенева к дочери, множество тетрадей с записями, дневников, рукописей произведений Александры Леонтьевны, некоторые издания ее книг. Одних писем разных лет Алексея Николаевича Толстого к матери и отчиму около ста! А кроме того, были первые издания книг А. Н. Толстого с дарственными надписями, многочисленные фотографии с автографами писателя, записки, документы. И все это новое, абсолютно неизвестное!
Начались страдные недели и месяцы. С утра я появлялся в белом двухэтажном особнячке Куйбышевского литературно-мемориального музея имени А. М. Горького. Хранительница фондов Маргарита Павловна Лимарова, оставив меня наедине с очередной порцией старых тетрадей и писем (часто еще не читанных даже сотрудниками музея), уходила. И для меня мгновенно исчезало все — поверхность стола, стены, комната, даже я сам. Терялось ощущение времени.
Старые письма были частичкой исчезнувшего бытия… Глубоко личные, не предназначавшиеся для постороннего глаза страницы, с взволнованно набегающими одна на другую строчками, с вычерками, помарками, с передышками раздумий и размашистой скорописью найденных слов, хранили трепетность и откровение минуты. Начинало казаться, будто они вовсе не давние, будто их принесла вчерашняя почта.
Я поднимал глаза. По соседству с комнатой, где я сидел, за изгибом тихого узкого коридорчика, была еще одна слепая полуподвальная клетушка. Я ее хорошо знал. Там стояла одинокая железная кровать, покрытая серым одеялом, был столик с несколькими книгами, чернильница и перо. Там в конце прошлого века ютился высокий худой человек, носивший широкополую шляпу и темную накидку. Там ночами писал свои очерки и рассказы фельетонист «Самарской газеты» Иегудиил Хламида — молодой Горький. В этой комнатке, остановившись, застыло то же самое время…