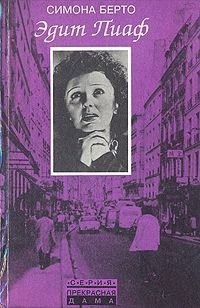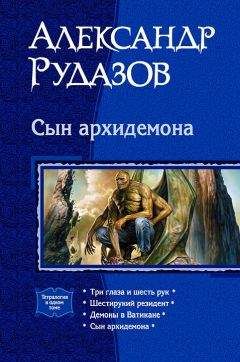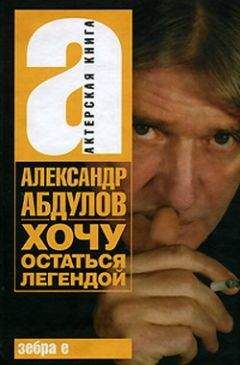Эдит Пиаф - Моя жизнь
Это он учил меня, что самое главное — жить так, чтобы без стыда смотреть на себя в зеркало, чтобы не краснеть за свое прошлое. А я, что я дала ему взамен? Немного.
Когда я с ним познакомилась, я подсмеивалась над ним, над тем, что он никогда, ни в самолете, ни в поезде, ни у себя дома, не читал ничего, кроме «комиксов», историй про ковбоев и детективных романов. Я ему говорила: «Послушай, Марсель, ты должен читать другие книги».
И чемпиону мира я терпеливо подсовывала Жида, Стейнбека, Джека Лондона. Следила, чтобы он не прятал в этих книгах юмористические картинки.
Поначалу он смотрел на меня, как побитая собака, и жаловался: «Зачем ты это делаешь, Эдит? Зачем ты заставляешь меня читать, когда на улице такая погода и мне гораздо приятнее пройтись?»
Позже я жалела о своей настойчивости: он стал настоящим фанатиком книги и так пристрастился к чтению, что больше ничем не занимался. Даже когда он прогуливался по набережной, он только и делал, что рылся у букинистов. Он так погружался в чтение, что бывало даже не замечал, когда я приходила.
А еще я научила его одеваться. Раньше он напяливал на себя все, что попадется под руку. Обожал фиолетовые галстуки и рубашки в горошек. Но тут я навела некоторый порядок.
Марсель не расставался со мной, даже когда я пела. Со сцены я видела его в глубине кулис. Он меня слушал, следил за занавесом, сердился, когда кто-нибудь шумел. Он восторженно смотрел на меня и говорил любому, кто был рядом: «Вы посмотрите только! Такая пигалица… Как это она может так петь?»
Конечно, эта любовь была слишком прекрасна для меня. И беда опять вошла в мою жизнь. Страшное известие ошеломило меня. Самолет Париж — Нью-Йорк разбился у Азорских островов. Марсель Сердан был на борту. Марсель Сердан погиб.
В этот вечер я пела в Нью-Йорке на сцене «Версаля», одного из самых роскошных кабаре.
Я так жестоко страдала, что никогда не найду достаточно сильных слов, чтобы об этом рассказать. И тело, и душа мои были ранены насмерть. И все-таки я выдержала. Перед началом своего выступления я объявила: «Сегодня вечером я пою в память Марселя Сердана. Я буду петь для него».
Может быть, это удержало меня от самоубийства?
Нет, все, что я делала потом, было страшнее смерти.
В конце концов, мы не властны над нашей жизнью. Мужество в том, чтобы пройти свой путь, до конца.
К тому же и потом Марсель меня никогда не покидал. Даже теперь, когда мне надо принять какое-либо решение, я всегда спрашиваю себя: «А как бы Марсель поступил на моем месте?».
Тем хуже для скептиков, пусть подсмеиваются, но я после смерти Марселя поверила в спиритизм. Я поверила в предупреждения вертящегося стола.
Доказательства? Хорошо.
После этого ужасного вечера на каждом спиритическом сеансе вертящийся столик не переставал мне указывать некое число, всегда одно и то же: семнадцатое февраля… семнадцатое февраля… Каждый раз я спрашивала: «А это хорошая весть?» И столик отвечал: «Да».
Наконец наступило семнадцатое февраля 1950 года. В шестнадцать часов раздался звонок, и юный телеграфист вручил мне телеграмму. Читаю: «Эдит, приезжайте в Касабланку. Я хочу вас деть. Маринет».
Это была Маринет Сердан, жена Марселя. Я первым же самолетом полетела в Касабланку.
Она ждала меня в аэропорту. Мы бросились друг другу в объятия, мы обе рыдали. Потом я сказала: «Маринет, если я могу вам помочь, если я могу хоть немного заменить Марселя, если я вам когда-нибудь понадоблюсь, я всегда сделаю все, что могу».
В этом я вновь обрела смысл жизни, я была спасена. Вскоре я занялась и сыном Марселя.
Тот, кто не понимает этого, не умеет любить по-настоящему, и потому любовь у таких людей уходит вместе со смертью. Они держатся только за мелочи жизни. А Маринет и меня Марсель научил другому.
Мой ад — наркотики
Как бы низко ты ни падал, никогда нельзя терять надежду.
После смерти Сердана, ровно через шесть месяцев, я пустилась во все тяжкие и докатилась до самой глубины бездны.
Хорошо мне было говорить себе: он меня не оставил, он охраняет меня оттуда; хорошо было повторять, что я обещала быть мужественной… Но я не выдержала удара, я обратилась к наркотикам. Это наложило печать на всю мою последующую жизнь, которая и без того началась с ужаса и грязи.
Может быть, потому и здоровье мое сейчас так подорвано, и я умираю преждевременно.
Несмотря на то, что в конце концов мне удалось победить болезнь, наркотики превратили мою жизнь в ад, который продолжался четыре года.
Да, в течение четырех лет я жила как животное, как безумная, для меня не существовало ничего, кроме укола, который приносил мне временное облегчение.
Мои друзья видели меня с пеной на губах, цепляющуюся за спинку кровати и требующую свою дозу морфия.
Они видели меня в кулисах, второпях делающую себе через юбку, через чулки укол, без которого я не могла выйти на сцену, не могла петь.
И даже это, даже мое искусство — ничто в мире не могло удержать меня, мое отчаяние.
Канун моей смерти я предвидела в одной песне, над которой работала. И если бы я могла выбирать, то хотела бы, допев, упасть на сцене, чтобы никогда уже больше не встать.
Восстанавливая в памяти то время, когда я была не что иное, как человеческое отребье, я хочу предостеречь тех, кто, как и я, после тяжелого горя ищут забвения в наркотиках или в алкоголе. Никто не пытался меня удержать, и я катилась по наклонной плоскости. Марселя больше не было. Я и не подозревала, что меня ждет, когда согласилась на первый укол. А кроме того, я решительно не предназначена для наркотиков.
Мой рок, мой ужасный рок, опять подстерегал меня. Где-то даже писали обо мне: «Стоит только Пиаф высунуть нос на улицу, как она сразу влипает в какую-нибудь беду».
Я попала в автомобильную катастрофу под Тарасконом, и часто жалела, что не погибла тогда. Я бы ушла к тому, кого не могла забыть.
Но, может быть, я еще недостаточно себя оплевала?
Меня вытащили из-под машины — груды металлических обломков — всю израненную, со сломанной рукой и перебитыми ребрами. Очнулась я уже в госпитале.
Каждое движение причиняло мне такое сильное страдание, что я не могла не кричать. И тогда одна из больничных сестер сделала мне первый укол. В одно мгновение боль прекратилась, и я почувствовала себя прекрасно.
Когда действие наркотика кончилось, мучения возобновились. Я потребовала еще укол.
Меня заставили терпеть до последнего. Но в конце концов все-таки сжалились надо мной и сделали инъекцию. Это был конец.
Однако меня перевезли в санитарной машине в мою парижскую квартиру. Там не было сестры, которая могла за мной наблюдать. Я умоляла всех друзей раздобыть мне морфий: это стало потребностью моего уже отравленного организма.