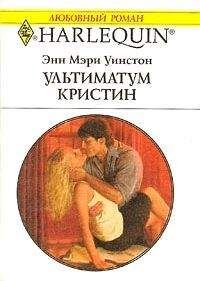Наталья Трауберг - Сама жизнь
Что же делать, как создать для детей такой новициат? Слова – пусты, пример – тоже только для тех, у кого прорезалось зрение. Лучше бы сиять, но, во-первых, этого мало, а во-вторых, пока худо-бедно засияешь, у тебя будут правнуки. Кроме того, мы слишком часто пытаемся выдать за сияние ту мерзкую слащавость, которой дети не выносят.
Теперь, когда так долго не было понятия греха, а потом за грех стали принимать что угодно, кроме себялюбия и своеволия, надо все начинать заново. Как это сделать с прочно взявшими власть детьми, я просто не знаю. Никакие новициаты мне не помогли это сделать, скорее – помешали, если учитывать только уровень земли.
Seesaw[ 23 ]
Сергей Сергеевич Аверинцев писал в примечаниях к Маритену: «Томист знает из своего Аристотеля…». Знает томист, что если перегнуть в одну сторону, непременно будет откат в другую. Возьмем принуждение и вседозволенность. Давят женщин, негров, детей – и пожалуйста; только ослабь поводок, они рвут его и гуляют на воле. Это бы ничего, издержки чужой свободы гасят христиане (тема особая), но немедленно вступает и новое подавление, карикатура на «униженные возвысятся». Именно это показывает, какой тут источник. Как-никак, diabolus simia Dei[ 24 ].
"Обойдя пока что феминизм и агрессивную полит-корректность, займемся детьми. Да, их секли. Когда у нас на «Софии» был «глас народа», мне нередко говорили, что это (розги) очень хорошо. Не думаю. Меня не секли, но другие формы репрессивного режима исключительно опасны. Истинное чудо, если жертва не станет тираном или плутом, когда обретет малейшую возможность. Словом, странный стишок 1950-х остается в силе, только последнюю строчку надо изменить:
Не бей ребенка утюгом, Лопатой, скалкой, сапогом -От этого, бывает, Ребенок захворает.
Скорее не «захворает», а – озвереет.
Однако в ordo naturae[ 25 ] никак не выйдешь на царский путь. «Не бей» – значит, разрешай совершенно все! Повторю то, что часто писала: я не знаю, как воспитывать детей. Вероятно, действует только очень сильное сияние воспитателя – «обрети мир, и тысячи (в том числе дети) вокруг тебя спасутся»; но поди его обрети до глубочайшей старости, да и во обще. Остается молитва, по слову сестры Фаустины: «…если невозможно – молись».
Но здесь я собралась говорить о новом перегибе. Примерно в 1960-х, причем – повсюду, не только у нас, кинулись к д-ру Споку, перевранному опыту японцев и т. д. и т. п. У японцев, слава Тебе, Господи, жизнь – как размеренный ритуал, маленький ребенок не разгуляется; а в нашем хаосе… И вот, получили; образовались два этажа – в одном по-прежнему орут, а психологи спасают детей оттирании[ 26 ]. В другом – распускают на всю катушку; тут психологи еще не подключились.
Описанные выше деды, как часто бывает, были репрессивными со своими детьми, вседозволяющи-ми – с внуками. Это бы ничего, так и раньше бывало, но у детей были права. В лучших случаях получалось даже уютно: дома – разумное сдерживание, у дедушки с бабушкой – временный рай. Но если все живут вместе, если детей зарепрессировали вчистую, выходит то, о чем печально сказал тот же Сергей Сергеевич: «Мы попали в зазор между неумолимыми родителями и неуправляемыми детьми». Что ж, Бог не выдаст.
На углу Пушкарской и Бармалеевой
Спросите кого-нибудь, где сердце Петербурга, и вряд ли вам ответят: «На углу Пушкарской и Бармалеевой». Однако для меня это именно так. Там, в самом углу двора, выходящего передом на Пушкарскую, а боком – на Бармалееву, стоял деревянный двухэтажный домик, в котором служили отец Дейбнер и экзарх Леонид Федоров. Оттуда спугнули Юлию Данзас, и она, собрав Дары в передник, поспешила на Лахтинскую, предупреждать отца Леонида. Ничего этого я не знала, когда жила там в детстве[ 27 ].
Наш дом, ампирный особняк с надстройкой «Корбюзье для бедных», стоял прямо напротив ворот. В правом ближнем углу, бывшем храме, жили старушки Лукашевич. О Господи, где патер Браун, который разберется в их судьбе! Вряд ли старушки вселились, когда служб уже не было; может быть, они уступили один этаж? Маловероятно и то, что они не были польками или хотя бы литовками. Райский дух их жилья выражался в засушенных цветах, картинах «Времена года», открытках и густой сирени под окном, где мы с нянечкой часто сидели.
После возвращения из Алма-Аты (август 1944-го) ни старушек, ни домика не оказалось, равно как и другого, слева от ворот. Миракль – это миракль, то
есть «сама жизнь». Другой домик был намного опасней. Там жило семейство дворника. Его дочка Нина, года на два старше меня, маячила в глубине, пока вдруг, когда мне было лет десять, не стала кумиром. Подумайте сами: с множеством каких-то мальчишек носится по двору, играет в лапту, поет песни про Будённого или про Каховку. А я читаю свою «Леди Джейн», и, хотя даже в школу хожу, для них меня просто нету.
Мгновенно угадав алгоритм, я, как-то к ней подобравшись, стала пересказывать книжки и имела немалый успех. Почему-то смеяться надо мной так и не собрались, но удивлялись, какие странные у меня бабушки. Крестьянский ангел, нянечка, их не удивил, а крашенная хной одесситка с камеей на груди и строгая церковная дама в слишком длинной юбке казались совсем дикими, хотя вроде бы таких было много.
Если вам нужен пример первородного греха, вот он, пожалуйста: очень скоро я уже передразнивала обеих бабушек в узком дворовом кругу. Недалеко было время, когда я начала бы красть. Однако оно не наступило.
Стихи
5 июля 1943 года мне исполнилось пятнадцать лет. Помню, как я проснулась в отгороженном углу комнаты, где жили мы с тетей и одной девочкой. У моего топчанчика стоял белый крашеный стул. На стуле лежала книга, большой (но не толстый) однотомник. Я раскрыла ее и прочитала:
Свирель запела на мосту, и яблоня в цвету, и ангел поднял в высоту звезду зеленую одну, и стало дивно на мосту смотреть в такую высоту, в такую глубину.
Тут мне конец и пришел.
Моя влюбленность в филологию была безоглядной, хотя лет до тридцати, а то и дольше я мало что понимала, странно думала, искаженно видела, постоянно делала глупости, но – читала стихи, почти сразу их запоминая. Правда, я молилась, но молитва в этом идиотском возрасте так скособочена и замутнена, что без стихов было бы еще хуже. Снова и снова меня спрашивают, пишу ли я мемуары – а какие мемуары, если все перекошено внутри? Что я видела? Да, себя – и судорожно мечтала о чем-то вроде бала Золушки (которую тогда снимали), но была и правда – вот эти самые стихи. К лету 1944-го я уже знала Ахматову, включая «Поэму без героя» – с голоса, который, как и Блок, принадлежал доброму и мудрому Михаилу Юрьевичу Блейману, чья жизнь заслуживает отдельного рассказа. Похожий на Фернанделя, нелепый, лет до пятидесяти – холостой, он нянчился со мной не меньше бабушки. Нянечка – и для меня, и для него, и для той же бабушки – была вне конкурса, как ангел.