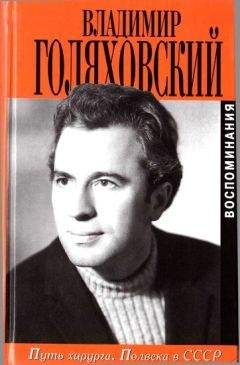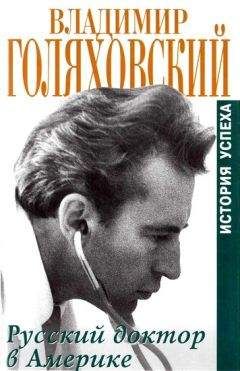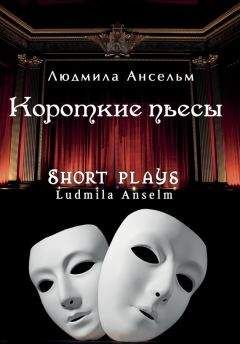Владимир Голяховский - Это Америка
— Еврею нужна не слава, ему нужно дело. Опиши, как Леон Фейхтвангер описал еврея Зюсса[6].
— Как Фейхтвангер не смогу — кишка тонка.
И все трое рассмеялись.
— Старик, я думаю, тебя пошлют в Вену, по пути еврейских эмигрантов.
— А я думаю — в Прагу. В Вене я растворюсь, а в Праге им будет легче следить за мной.
Лиля возмутилась:
— До чего бесчеловечна наша власть, даже высылая человека, ему не говорят — куда.
— Солженицыну тоже не говорили, да и многим другим, — грустно сказал Алеша.
* * *В Шереметьево толпились пассажиры, встречающие и провожающие. Аэропорт буквально кишел агентами госбезопасности в штатском. Все было устроено так, чтобы они могли следить за людскими потоками. Из дальнего конца зала слышались крики и плач — там на досмотре шмонали евреев, эмигрирующих в Израиль. Чтобы они не вступали в контакт с иностранцами и корреспондентами, им выделили дальний конец зала. Досмотр начинался в семь часов утра и шел целый день. Отбывающие в чужой мир стремились взять с собой как можно больше, а разрешали им вывозить как можно меньше; имелся короткий список разрешенного и длинный список запрещенного к вывозу. Но евреи придумывали свои ходы и старались обмануть бдительных таможенников, спрятать, подложить что-нибудь еще. Таможенники «досматривали» строго, все вызывало у них подозрение, и обмануть их было нелегко. Обстоятельно, с мрачными лицами, они выкладывали вещи на длинные столы и тщательно проверяли. Хозяевам вещей полагалось стоять в стороне, и они нервно вытягивали шеи, следили — что делают с их вещами, волновались, пожилые женщины плакали:
— Как это нельзя брошку провезти? Ведь это единственная память о моей маме.
Но спорить с таможенниками было бесполезно.
— Как все это унизительно, — прошептала Лиля.
Алеша хмуро наблюдал — он должен был проходить процедуру вместе со всеми. Моня говорил ему на ухо:
— Старик, ты, как всякий поэт, — человек эмоциональный, горячий. Когда тебя станут шмонать, возьми себя в руки, не горячись, не пререкайся с этими сволочами.
Наконец дошла очередь до чемоданов Алеши. У таможенников вызвала подозрение пишущая машинка «Эрика», они перевернули ее, заглянули внутрь, освещали фонариком дно — не спрятано ли там что, долго трясли машинку, но из нее, как ни странно, ничего не выпало. Потом долго перелистывали книги, искали — не запрятаны ли там рукописи. Половину книг отложили:
— Издания до 1935 года к вывозу запрещены.
Алеша пытался спорить, Моня стоял сзади и дергал его за пиджак.
Домой возвращались уже поздно. Возле подъезда Моня с Алешей вышли из машины. Моня грустно сказал:
— Ну, старик, что тебе сказать? Знаешь, как писал Байрон: Fare thee well, and if for ever, still for ever fare thee well[7]. «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай!» Больше двадцати лет, старик, твоя дружба значила для меня очень много. Я горжусь твоей дружбой, ты всегда был одним из самых близких. Ну, прощай, главное — будь здоров и благополучен.
— Прощай, Монька, — Алеша говорил с трудом. Спасибо тебе за все наши годы вместе. Твоя дружба помогала мне расти. Меня-то обратно не впустят, а ты постарайся вырваться ко мне, где бы я ни был. И пожалуйста, помогай Лиле, пока она тут одна.
— Конечно, старик, на то мы и друзья, — сказал Моня.
Они обнялись, и Лиля молча смотрела, как плачут двое немолодых мужчин.
* * *В последний раз на квартире Павла и Августы собралась вся семья. Как всегда, их уже ждал накрытый Августой стол.
— Что вы так поздно? — недовольно пробурчал Павел. — Мы с Авочкой заждались.
— Долго шмонали, там собралось много евреев, и меня досматривали с ними.
— Что это за слово такое неприятное? — спросила Августа.
— Жаргон, от еврейского слова шмон — беспорядок, шумиха.
— Но тебе сказали, куда высылают?
— Нет, до сих пор не знаю, думаю — или в Вену, или в Прагу.
Августа хлопотала у стола, не сводя глаз с сына.
— Садитесь, дети, садитесь за стол. Ты, сыночек, устал, наверное?
Павел разлил по бокалам вино:
— Ну, дорогой наш сын, за твое благополучное приземление, где бы ни было. Как только прилетишь, сразу пошли нам телеграмму.
Алеша поднял бокал:
— Мама, Павлик, вся моя дорогая семья! Это моя последняя ночь в Москве, в России, но я с вами не прощаюсь. Лилю с Лешкой я надеюсь увидеть скоро, но и вас, дорогие мои, я все равно еще увижу. Горько мне расставаться с тобой, мама, и с тобой, Павлик. Но мне не жалко расставаться с Россией. Я никогда не был патриотом — идиотом, любящим свою страну только за то, что в ней родился. У меня нет предрассудков такого рода. По — моему, любовь к стране должна основываться на уважении к ней, к ее истории, к ее общественному устройству. Но у России не было и нет ни достойной истории, ни человеческого устройства. Во мне накопилось много горечи и обиды на мою страну. Если я что русское люблю, так только русскую литературу и искусство. Недавно я ходил в последний раз на лыжах в Опалихе. Места там хорошие, настоящая русская природа. Я шел по лыжне и ясно почувствовал — и природу эту мне тоже не жалко покинуть. И я написал стихотворение:
Я не кинусь тебе на шею,
Не возьму с собой прах твой, Русь;
Покидаю и не жалею,
Никогда к тебе не вернусь.
Ни березки твои, ни раздолье
Не заманят меня назад,
Без тоски и сердечной боли
Я расстаться с тобою рад.
Не придет ко мне ностальгия,
Не заставит меня грустить.
Все мне чуждо в тебе, Россия,
Все мне хочется позабыть.
С минуту все молчали, а потом Павел тяжело вздохнул:
— Да, вот до чего нас довели — загнанный человек перестает любить свою страну.
Августа заплакала:
— Сыночек, это очень прочувствованные стихи, прекрасные. Я так люблю твои стихи, помню их наизусть, повторяю про себя. Неужели я никогда не услышу, как ты сам их читаешь?
Опять воцарилось подавленное молчание. Прервала его Лиля:
— Я тоже могла бы подписаться под этим отречением от России. Тебя высылают, и мы с Лешкой вынуждены бежать. Почему, за что? За то, что наши отцы и мы сами стремились помочь этой стране? Такую страну нельзя любить.
— А ты что думаешь? — Алеша повернулся к сыну.
Тот проворчал:
— А мне наплевать — березки или не березки. Уеду и забуду.
— Ты лучше расходуй свои плевки здесь, потому что там, в Америке, добивается успеха не тот, кто на все плюет, а тот, кто вкалывает, засучив рукава.
Лешка надулся, но промолчал.