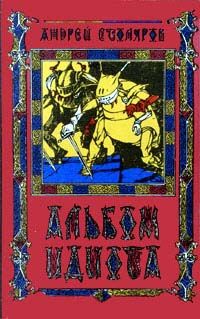Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич
Вдруг я вздрогнул: у Богословских я был не один. Я спрятался за сосну, он тоже. Он мог быть уличный, я – хозяйский, оказалось, оба посторонние.
Разложили друг перед другом добычу. Осколков у него было чуть больше. Его так же интересовали марки/ монеты.
Шурка Морозов жил на Кривоколенной напротив Тихоновых. Отец весь день в Люберцах на заводе, мать общественница. Дома – бабка, злыдня, дед был полицмейстер, фамилия Гарниш, считается, чехи, наверно, немцы – весь день заставляет пасти козу.
Я выбегал к нему за Сосенки, на свалку. Летом сорок первого года на ней валялись измазанные говном кра-сивые царские облигации. Мы колебались, брать – не брать.
Шурка гонял козу, матерился, пел:
Мальчишка с козой – хотя фамилия Гарниш, считается, чехи, наверно, немцы – все не старик с козой, поет Хайль Гитлер, а не шпион.
Мы ссыпаем в ключ серу от спичек, затыкаем гвоздем и на привязи жахаем о бревно. Раскурочиваем патроны на порох, устраиваем взрывы. Из никелированной трубки – для малокалиберных – устраиваем самодрачку. Взрослые вздрагивают от этого слова, еще не поняв, что оно из области: Руку оторвет!
Самодрачка стреляла с раскатом из любимого каталога Иве́ра:
– Солотурн!
Я нашел круглую – как колбасный круг – часть от зенитного снаряда, вставил в отверстие гвоздь и стукнул – стала греться в руках, я успел зашвырнуть в речку.
Мы бежим в поссовет на боевой киносборник Победа будет за нами. В зале одни мальчишки. В кино фашисты толстые, глупые, с повязкой на рукаве. Над ними легко потешается бравый солдат Швейк. В наш тыл с парашютом спускается бывший помещик. Заходит к своей крестьянке. Старушка незаметно посылает внучку куда надо.
Кажется, мы понимаем, немцы – не то, что в кино. Поражают воображение величественные слова:
мотопехота, Мессершмит, Юнкерс-88, Фокке-Вульф,
штурмбанфюрер,
дивизия Мертвая голова.
Про своих рассказывают анекдоты. Например:
Приходит генерал в окопы. Грузин докладывает: – Кацо – налицо, елташ – в блиндаж, Абрам – в кладовой, Иван – на передовой.
Анекдотов про немцев я никогда не слыхал.
Лето тянется так долго, что до поступления в школу на моем огородике успевает из зернышка вырасти и созреть большой кукурузный початок.
Беспалый Борис Иванович, директор, оглядел меня и сказал кому-то в окно:
– Не свисти, не в лесу!
Удельнинская школа располагалась в обширной дореволюционной даче со службами и достройками. За ними – плотницкое, на скорую руку, издавна – М и Ж. Устоявшийся запах за тридцать шагов, кучи на улице и внутри, между М и Ж просверлена дырка.
Девочки приседают, сикают у забора. Все видно. До того я считал, что у шафрановской Люськи еще не выросло.
Мама огорчилась, что учительница не старая, опытная, а молодая, но и молодой отнесла новенькие галоши.
В первый же день завуч Тукан вошел посредине урока:
– Учебная тревога!
Школа, киша, расселась в длинной – изгибами во весь двор – щели. Я оказался у выхода.
– Этʼ даже лучше, – решила мама. – Если что, скорей выбежишь.
В ней застряла идея бегства:
– Научись кататься на велосипеде. Стоит велосипед – ты взял и уехал…
– Научись управлять машиной. Стоит машина – ты взял и…
Сама, как огня, боялась велосипеда и машины. Да и ни о каком отъезде, бегстве, эвакуации в семье речь не шла: что будет, то будет.
Домашние задания я выполнял одним махом. И все же, видя меня за тетрадкой, мама не могла не запеть незабвенного Ива́нова Павла:
Незанятое унылое время я слонялся по снегу или читал.
Последние довоенные детские книжки не вяжутся с тем, что вокруг. Чудесное путешествие Нильса – так далеко, что впервые от чтения делается еще тоскливей.
Марка страны Гонделупы – жизнь совсем как в Удельной, но неправдоподобно легкая, нестрашная, благоустроенная. Захватывает – потому что про марки. Только я не поверю, что вся серия может быть на одном конверте. Папин сослуживец уходил на фронт и оставил мне на всю войну драгоценную редкость – каталог Ивера 1937 года. Я узнал, что в шведской серии не десять, а двенадцать марок, и они совсем не те, что на книжке. Ивер творил чудеса. Без словаря я понимал не только наглядные руж, блё, бистр, вермийон. Споткнулся на тембр в тембр-пост и на герр де л’индепенданс – из-за сходства с л’Инд.
Кавалер Мезон-Руж – мой первый взрослый роман, 365 страниц. Сладко тайно щемило, и я понимал, что рассказывать маме/папе про любовь Мориса и Женевьевы так же немыслимо, как про епание.
Еж конца двадцатых-начала тридцатых, комплектами – от выросших Игоря и Бориса – привозила добрая бабушка Ася. Все листали, читали, никому в голову не пришло, что мне лучше бы этого не давать – выключали же на Павлике Морозове! Еж утверждал, что жизнь везде отвратительна. Например, в Америке. Там есть один наш, хороший – пионер Гарри Айзман (его письмо и портрет), остальные – не наши, плохие. Агентство Пинкертона в Еже ничего общего не имело с прекрасным Нат-Пинкертоном папиных воспоминаний. Безработный с горя идет в шпики и из номера в номер – в картинках – пытает и убивает таких же рабочих. Было в Еже и смешное – ненужные изобретения: машина для сбивания яблок, машина для снимания сапог, машина для мытья спины. Но главное для Ежа – Лига наций, буржуи с сигарами, контрреволюционные переговоры о разоружении. Похожи на американцев – фашисты: в Италии они поят касторкой, в Германии – бьют.
В ожидании немцев Еж пошел в печку. Туда же случайно попала папина – сельскохозяйственная – Лошадь как лошадь Шершеневича. Печка стояла горячая от книг двое суток.
Ценности – кольца, часы, отрезы, мои марки – зарыли возле крыльца под фундаментом. Когда отрыли – марки заплесневели, сквозь рисунок проступили желтые прямоугольники самодельных наклеек.
Немцы должны были прийти – в Удельную и в Москву – шестнадцатого числа. Все – в Москве и в Удельной – почему-то сразу узнали, что из метро вышел поезд с правительством.
Нам с мамой было жутко в пустой даче, и мы пошли ночевать к соседям.
Голубоглазый седой Михей – у него были царский полтинник и крымские камешки – неистово бегал по комнате:
– Я увижу строй, я пройду сквозь строй, я скажу им: братья!
Михевна сидела у чайника:
– Ельня, Ельня, помешались они на своей Ельне. А про мое Ржищчево хоть раз написали? Где там моя мама? Михей, перестань бегать!
Михей не переставал:
– …и всюду жиды пархатые! Вот он здесь – не успел оглянуться, а он уже там. Пархачи!
На ночь я спросил маму про новое слово:
– Пархатые – это потому что порхают?
Я долго не мог заснуть, вспоминал:
– Ихь бин айн щюлер. Ихь хайсе Андрей. Майн фатер ист Сергеев. Майне муттер – Михайлова. Вир зинд руссиш.
Год назад на Большой Екатерининской бабушкин знакомый, учитель музыки, чех Александр Александрович Шварц узнал о моей любви к Франции и не одобрил:
– С немецким я прошел всю Европу. Учи немецкий – все тебя поймут.