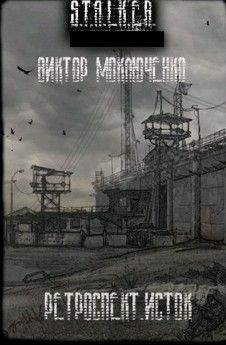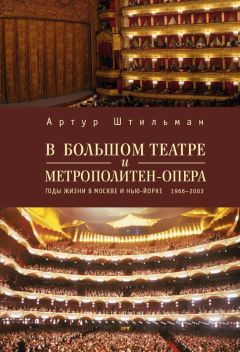Две жизни одна Россия - Данилофф Николас
— Итак, — прервал молчание Сергадеев, и начал допрос, который продолжался тридцать часов в течение следующих тринадцати дней. Его неразговорчивый переводчик сидел с ним рядом.
— Я бы хотел проинформировать Вас о Ваших правах. Вы имеете право на защиту после предварительного следствия. Вы можете делать записи, Вы можете даже использовать магнитофон. Вы можете представлять письменные показания и объяснения. Ваши интимные семейные отношения и связи не имеют никакого отношения к настоящему делу.
Из этого я сделал вывод, что у КГБ не было ничего, что можно было бы использовать против меня из подслушанных моих ночных разговоров с Руфью через микрофоны, установленные близ нашей постели.
Полковник обогнул стол, подошел и вручил мне экземпляр уголовно-процессуального кодекса. Он предложил, чтобы я сел за маленький столик в конце комнаты и ознакомился с этим кодексом. Но я был слишком взволнован и не мог сосредоточиться. Просить ручку и бумагу не имело смысла, так как я не имел представления, что следует выписать. Я чувствовал полную беспомощность. Прострелив мне грудь, КГБ предлагал мне в помощь пластырь. О подлинной цели предложения полковника ознакомить меня с юридическими установлениями я узнал намного позже, когда выяснил, что он опустил самое важное мое право по Республиканскому процессуальному кодексу — право не отвечать на вопросы (статья 46) и право воздерживаться от подписания любых документов (статья 142).
— А теперь, — начал полковник Сергадеев, — расскажите о Ваших отношениях с Мишей. Должен поставить
Вас в известность, что он арестован по подозрению в измене Родине по статье 64 Уголовного кодекса и в настоящее время подвергается допросу, как и Вы. Я бы просил Вас быть правдивым и искренним. Думаю, Вы понимаете, что если нам удастся достичь взаимопонимания, то это в первую очередь будет выгодно Вам.
Эти слова поставили меня в весьма трудное положение: я должен был сейчас же принять решение о своем поведении во время следствия. Я вспомнил, что и Тоут и Смейл отвечали на вопросы и подписывали заявления, и я не мог вспомнить ни об одном американце в подобной ситуации, кто бы отказался идти навстречу следствию, по крайней мере, в начале. Я не очень хорошо умею лгать, для меня всегда легче говорить правду. Как журналист, я никогда не писал о судах, и у меня нет юридической подготовки. Я никогда не служил в армии и не получал инструкций относительно того, как сопротивляться, если меня захватит враг. Помочь мне сможет только здравый смысл. Мне казалось, что отказ отвечать на вопросы Сергадеева будет означать, что я стараюсь что-то скрыть от следствия. Я также чувствовал, что если мои показания покажутся заслуживающими доверия с самого начала, мне впоследствии будет легче вводить в заблуждение следователя случае необходимости защитить друзей.
Итак, допрос начался с изложения истории моего знакомства с Мишей в гостинице во Фрунзе, где мы были с Джимом Галлахером. Сергадеев хотел узнать о Мише все, начиная с его фамилии и отчества. Малейшая деталь наших встреч казалась для него важной: когда Миша приехал в Москву, как он встречался со мной, где ми виделись, что делали, о чем говорили. Я чувствовал себя все хуже и хуже; каждый вопрос имел целью представить наши отношения подозрительными. И хотя арест был явной инсценировкой, меня мучил вопрос, пытается ли Миша защитить меня?
После двухчасового сидения на жестком стуле я попросил у полковника разрешения выйти в туалет.
— Конечно, — ответил он. — Я вызову конвойного, и он проводит Вас.
Через несколько минут офицер КГБ в форме цвета хаки привел меня, с руками за спиной, в туалетную комнату в конце коридора. Это было маленькое помещение, примерно два с половиной метра, в котором находились собственно туалет и умывальник, отделенные друг от друга перегородкой. В отличие от большинства таких комнат в Советском Союзе, эта была безукоризненно чистой, правда в стенке недоставало нескольких кафельных плиток.
Мой часовой был молодой человек примерно моего роста, с коротко остриженными волосами. Мы вошли в комнату вместе. С детства я страдал вялостью функции мочевого пузыря и сейчас никак не мог облегчиться. Испытывая большую неловкость, я объяснил конвойному, что его присутствие очень меня стесняет. Он отошел в угол, где я его не видел.
— Не беспокойтесь, — сказал он вполне дружелюбно. — Вы просто испуганы. Это пройдет, и все будет в порядке. — Он был прав. Через несколько минут мы уже направились обратно в комнату 215.
Полковник дал мне стакан воды и продолжали допрос. Где жил Миша во Фрунзе? Кто присоединился к нему, когда мы обедали? О чем мы говорили? Чем я больше всего интересовался? Я объяснил ему, что Миша повез нас показывать город на следующее утро после нашей встречи, что он познакомил нас со своими друзьями за обедом в тот вечер, и что мы говорили о проблеме наркомании среди советских студентов университета, о Китае и о непопулярной войне в Афганистане.
В пять часов дня, после нескольких часов утомительного допроса Сергадеев сказал:
— Теперь Вы можете позвонить. Вот этот телефон, — и он показал на один из трех аппаратов, стоявших на маленьком столике рядом с большим письменным столом.
Я думал сначала позвонить в посольство, но было уже почти пять тридцать. На мой звонок ответит охранник из морской пехоты, который соединит меня с дежурным. Самое большее, что я смог бы сделать, это сообщить о факте моего задержания. Поэтому я решил позвонить в свой офис.
Ответил Джефф Тримбл. Я рассказал ему о случившемся, но это, как мне показалось, не произвело на него впечатления разорвавшейся бомбы. Оказывается, ТАСС уже сообщило об аресте американского корреспондента.
— Где ты? — спросил Джефф.
— Я точно не знаю. Где-то в северо-восточной части Москвы. Я был арестован по подозрению в шпионаже и меня допрашивали всю вторую половину дня.
— Это в отместку за арест Геннадия Захарова в Нью-Йорке, — сказал Джефф. — Его отказались выпустить под залог…
Я плохо разобрал, что сказал Джефф. Отказались? Согласились? Где Захаров? Все еще в тюрьме или его выпустили? В присутствии переводчика и Сергадеева, не спускавшего с меня глаз, я не хотел переспрашивать Джеффа, не хотел, чтобы они знали, насколько глубоко я заинтересован в деле Захарова.
— Где Руфь? — спросил я.
— Вот идет…
Руфь подошла к телефону, и я коротко изложил ей основные моменты: встреча с Мишей у станции метро, книги, которые я ему дал, пакет, который он мне вручил, мой арест после его ухода. Я смотрел на телефон, пока говорил, и мне в голову пришла мысль.
— У тебя карандаш под рукой, Руфь? Запиши номер? 361-65-56. Это там, где я нахожусь.
— Поняла! — ответила она.
Я был прав, что позвонил в офис, так как теперь Джефф и Руфь будут знать, что делать. Они дадут это! номер нашим коллегам, которые, в свою очередь, позвонят Сергадееву. Это придаст моему делу огласку и поможет опровергнуть утверждение официальных советски! органов о том, что я шпион и что мое дело не имеет никакого отношения к делу Захарова.
Я посмотрел на полковника и на переводчика. Оба были абсолютно невозмутимы.
— Как ты думаешь, сколько тебя там продержат? — спросила Руфь.
— Думаю, несколько недель, если все пойдет такими темпами. Меня очень волнует, что будет со всеми материалами, связанными с исследованиями жизни моей семьи, если они решат учинить обыск в нашей квартире.
— Не беспокойся, — голос Руфи звучал уверенно. — Мы уже буквально окружены корреспондентами. И пока они здесь, я сомневаюсь, что КГБ устроит обыск. Я уберу все твои бумаги в безопасное место.
Мы поговорили еще несколько минут. Руфь обещала позвонить Сергадееву на следующий день, попросить о свидании со мной и поговорить с ним. Перед тем как повесить трубку, я сказал:
— Они требуют, чтобы я заканчивал разговор. Помни: я люблю тебя, и буду вести себя здесь достойно.
Теплые слова Руфи, ее поддержка — всего этого хватило лишь на несколько минут, и теперь я снова был ужасно одинок. Глядя на Сергадеева, я стал вспоминать об отце.