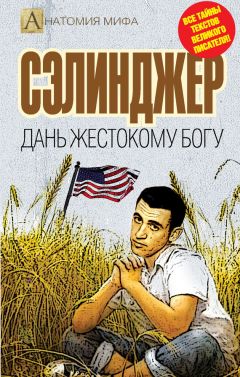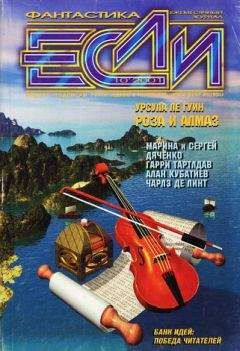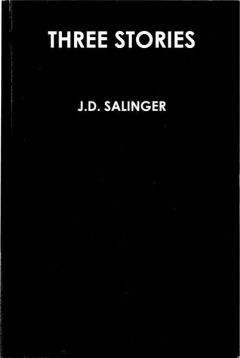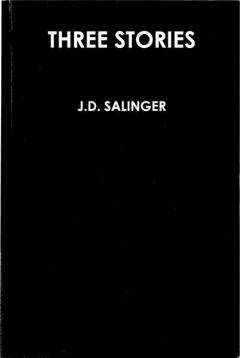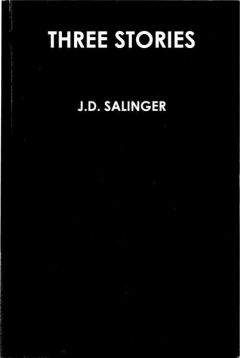Маргерит Юрсенар - Блаженной памяти
За эти три года Мишель сделал сотни фотографий. Некоторые, почти стереоскопические, образуют длинные, свернутые наподобие папируса ленты, концы которых загибаются, когда я пытаюсь их разгладить. Народные сценки: крестьяне, погоняющие осла, крестьянки, несущие на голове глиняные кувшины с водой, хороводы девочек на маленьких итальянских площадях или баварские фарандолы. Памятники, которые он видел в такой-то день, в такой-то час, полагая, что схваченный фотоаппаратом их образ когда-нибудь напомнит ему маленькие радости минувших дней. Мишель ошибался — насколько мне известно, он ни разу не удосужился взглянуть на эти быстро выцветшие клише. Цвет сепии накладывает на них отпечаток какой-то тревожной меланхолии: можно подумать, что они сняты в инфракрасных лучах, в которых, как говорят, лучше видны призраки. Венеция выглядит на этих снимках так, словно уже тогда страдала недугом, от которого гибнет в наши дни, — ее дворцы и церкви кажутся хрупкими и как бы пораженными червоточиной. Каналы, забитые не так плотно, как ныне, окутаны нездоровым сумраком, в котором Баррес26 в ту пору находил сходство с пагубным свечением опала. Над озером Комо лежит отсвет бури. Дворцы Дрездена и Вюрцбурга, снятые фотографом-любителем немного сбоку, кажутся уже изувеченными будущими бомбардировками. Объектив этого непредубежденного прохожего задним числом, точно рентген, вскрывает болезненные изменения в мире, который не чувствует, как велика угрожающая ему опасность.
Эти роскошные декорации иногда оживляет присутствие живого существа. Вот Трир, совсем молодой, блестящий и гладкий, его купили в городе, именем которого он назван, и он на своих кривых ногах просеменил мимо римских развалин родного города. Длинным поводком он привязан к одному из бронзовых флагштоков, водруженных у собора Святого Марка, и ревниво охраняет пальто своего хозяина, его трость и футляр от бинокля — настоящий натюрморт из принадлежностей путешественника 1900 года. А вот, конечно, и Фернанда. Фернанда в Мариенбаде, склонившаяся к источнику; в одной руке она держит букет и солнечный зонтик, в другой — стакан воды, которую пьет с прелестной гримаской. Фернанда, тоненькая и стройная в своем дорожном костюме, в юбке чуть короче обычного, из-под которой виднеются высокие боты, в снегу на какой-то альпийской станции. Фернанда в городской одежде с неизменным зонтиком в руках, идет мелкими шажками на фоне гористого пейзажа, а ее пасынок, взгромоздившийся на вершину какого-то доломитового уступа, чем-то напоминает молодого тролля. Фернанда в белой блузке, светлой юбке и в одной из тех огромных шляп с лентами, которые она любила, прогуливается с книгой в руке в каком-то тенистом германском лесу и, очевидно, читает вслух стихи. Одна из этих фотографий свидетельствует о том, что Мишель хотя бы в эти годы был счастлив, пусть даже воспоминания со временем выцвели, как сами фотографии. Моментальный снимок сделан в номере какого-то корсиканского трактира. Жалкие обои в цветочек, туалетный столик, видно, что колченогий; сидящая перед зеркалом молодая женщина втыкает последнюю булавку в свой замысловатый шиньон. Широкие рукава ее белого пеньюара соскользнули с поднятых рук до самых плеч. Ее лицо — лишь отражение, не столько видимое, сколько угадываемое. Рядом с ней на круглом столике дорожные принадлежности — спиртовка и грелка. Думаю, Мишель не дал бы себе труда запечатлеть эту сцену, если бы она не воплощала для него нежную интимность утра. Наверняка за эти три года такое утро было не одно.
И, однако, на беспечной жизни Мишеля и Фернанды уже появляются потертости, словно на кое-где поредевшей шелковой ткани. Похоже, что в Фернанде, как в ту пору во многих женщинах, жила Гедда Габлер, вся напрягшаяся и уязвленная. На горизонте иногда возникает тень меломана-барона. В дни острых кризисов Мишель надолго уходит гулять и возвращается, успокоившись: он не из тех, кто любит длить ссоры. Я уже говорила в другом месте о том, как его раздражало, что Фернанда теряет кольца и слишком быстро приводит в негодность свои туалеты. Фернанда радуется своей близорукости. («Издали все кажется более красивым, когда не видишь деталей»), тем не менее в театре, да и в других местах она вынуждена пользоваться лорнетом, этим наглым инструментом, который преображает физический изъян в высокомерное самоутверждение; у Фернанды целая коллекция лорнетов в золотой, серебряной и — признаюсь со стыдом — в черепаховой оправе и в оправе из слоновой кости. От сухого щелчка их пружин Мишель вздрагивает так же раздраженно, как при хлопке бесцеремонного веера.
Изнеженность Фернанды лишает Мишеля возможности совершать далекие прогулки. Уроки верховой езды не излечили Фернанду от боязни лошадей. Что касается маленькой яхты, сменившей «Пери» и «Бенши», которые были у Мишеля с Бертой, Фернанда дала ей имя другой мифологической женщины — «Валькирия» (впрочем, не исключено, что этим именем ее нарекла прежняя владелица яхты графиня Тасанкур, также поклонница Вагнера, и тогда, быть может, имя и стало одной из причин, по какой эту яхту купили). Но в самой Фернанде нет ничего от Брунгильды. На Корсику они с Мишелем вернулись в надежной почтовой карете. А «Валькирия» со своим капитаном и двумя матросами не спеша следовала за ними вдоль итальянского побережья, причем трое лихих парней заходили в каждый порт, где у них были родные, знакомые или девицы в их вкусе. В ответ на их отчаянные телеграммы «Tеmро cattivissimo. Navigare impossibile» [погода ужасная, плыть невозможно (итал.)] Мишель только посмеивался, но Фернанда выражала недовольство лишними расходами. По временам в Генуе, в Ливорно им случается повстречать свой маленький кораблик, и тогда Мишель не может отказать себе в удовольствии провести ночь в покачиваемой волнами каюте. Но его мучают укоры совести. Не в его характере оставлять женщину одну в комнате отеля с томиком Лоти в качестве единственного утешения. Рано утром он является к жене, купив ей перед тем цветы на какой-нибудь площади Риссорджименто.
В Байрейте трещина углубляется. Фернанда здесь упивается немецкой мифологией и поэзией. Г-н де К. принимает Вагнера до «Лоэнгрина» и «Тангейзера» включительно — иногда он напевает «Романс звезде». Но вся Музыка будущего, написанная после этого, для Мишеля не более чем продолжительный шум. Приземистые Тристаны и толстухи Изольды, выходящий на авансцену бородач Вотан и дочери Рейна, похожие на расплывшихся деревенских баб, вызывают у него такой же поток колкостей, как снедь, выставленная в буфете, или та, что в антракте извлекают из кармана зрители, как каски и мундиры, не менее театральные, чем варварское снаряжение на сцене, как напыщенные берлинские или подчеркнуто томные венские дамы. Он без симпатии оглядывает светскую публику, явившуюся из Франции аплодировать Новой музыке; тут и г-жа Вердюрен28 со своей клакой («Мы составим клан! Мы составим клан»), пронзительные голоса парижанок врываются в немецкое ворчанье. Предоставив Фернанде в одиночестве наслаждаться третьим актом «Мейстерзингеров», Мишель возвращается в отель и выводит Трира на вечернюю прогулку. Зажженные газовые рожки смотрят на эту дружескую и в исконном смысле слова циничную пару, на двух по-настоящему привязанных друг к другу живых существ (причем у каждого свое более или менее ограниченное поле деятельности, свои наследственные вкусы и личный опыт, свои причуды, своя потребность иногда поворчать, а иногда и укусить) — на человека и его собаку.