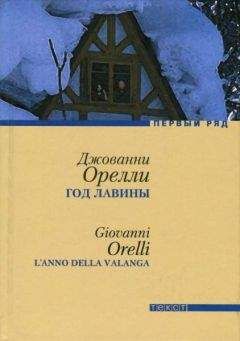Ирина Муравьева - Жизнь Владислава Ходасевича
Оба критика — и Ходасевич, и Адамович — на многое смотрели по-разному, давали разные оценки появлявшимся в печати произведениям, и весь эмигрантский литературный Париж с интересом, подчас подогреваемым любовью к скандалам, следил за перипетиями их чернильных битв. Адамович был, пожалуй, более терпим, более обтекаем, подчас ходил вокруг да около темы (что раздражало его оппонента), но из этих хождений по кругу возникали иногда глубокие и оригинальные мысли. Ходасевич был более резок и определенен в оценках, более страстен и нетерпим к мнению других (меняя свое раз установившееся мнение крайне редко), саркастичен, но не менее Адамовича глубок и оригинален. Зачастую их схватки были турнирами равных бойцов.
Наверное, первым их открытым столкновением был спор по поводу конкурса на лучшее стихотворение, проведенного газетой «Звено» весной 1926 года. Это был читательский конкурс, то есть проводился он на основании мнений читателей. В результате победило очень слабое стихотворение Д. Резникова «О любви». Ходасевич в «Днях» раскритиковал и эти стихи, и сами условия проведения конкурса — выявление победителя путем голосования читателей. Адамович взял и стихотворение, и конкурс под защиту. Но это была весьма корректная и сдержанная полемика.
Серьезный и очень резкий спор начался у Ходасевича и Адамовича в 1927 году, когда последний, разбирая в газете «Звено» (3 апреля) поэзию Пастернака, написал, что Пастернак «отказался от заветов Пушкина», но при этом позволил себе заметить: «Кажется, мир сложнее и богаче, чем представлялось Пушкину. <…> Не надо преувеличивать цену ясности, в которой не вся мировая муть прояснена». Таких нападок на своего кумира Ходасевич, конечно, не стерпел и сразу же бросился в бой. Уже 11 апреля в «Возрождении» появилась его статья под недвусмысленным названием «Бесы», где он объяснял Адамовичу и читателям, какие глубины и бездны скрываются под кажущейся ясностью Пушкина, и упрекал Адамовича в том, что Пушкина тот как следует не читал. По поводу употребленного дважды Адамовичем оборота «кажется» написал саркастично, что «если кажется, то надо креститься». Адамович обиделся и уже в следующем номере «Звена» от 17 апреля отвечал, что Пушкина он читал и любит его и что напрасно Ходасевич присваивает себе право быть единственным «адвокатом Пушкина». Но по-прежнему настаивал на не очень сложном восприятии мира Пушкиным и противопоставлял ему Лермонтова с его стихами «По небу полуночи ангел летел…», глубины которого не дано было достигнуть Пушкину.
С этого времени их полемика стала более ожесточенной.
Камнем преткновения в их постоянных ожесточенных спорах было творчество Владимира Набокова, тогда еще выступавшего в печати под псевдонимом Сирин, творчество которого Ходасевич ставил очень высоко. В 1930 году написал о Сирине и Георгий Иванов (по поводу «Защиты Лужина», «Короля, дамы, валета», «Машеньки» и «Возвращения Чорба»), причем предельно грубую статью, очевидно мстя ему, как умел один он, за отрицательный отзыв о романе Ирины Одоевцевой. При этом он ссылался на Адамовича, который еще ранее заметил про «Защиту Лужина», что роман мог бы появиться в «Nouvelle revue française» и пройти совершенно не замеченным в потоке средних произведений французской беллетристики. Адамович, конечно, в отличие от Иванова, был далек от литературных расчетов, никому не мстил и не стремился «дать под дых»; он совершенно искренне не принимал и не понимал творческий метод Набокова, в чем был не одинок в эмиграции. Впоследствии он смягчил свою оценку творчества Набокова, признав его талант, но по-прежнему объявлял его «наименее русским из всех русских писателей». И все равно писал: «В набоковской прозе звук (то есть тон, интонация, ей Адамович придает большое значение в прозе. — И. М.) напоминает свист ветра, будто несущего в себе и с собой „легкость в мыслях необыкновенную“».
Адамович был ярко выраженным сторонником реализма (что, может быть, отчасти объясняет его отношение к Набокову), обожал Льва Толстого, о котором судил очень точно, а Набокова всю жизнь считал «глубоко не русским писателем». Впрочем, к писателям «ненатуральным», вымученным, далеким от реальной жизни он относил и Гоголя, и Достоевского. Несколько смешными и наивными на этом фоне выглядят его восторженные оценки таких средних писателей, как Зайцев и Тэффи.
Ходасевич постоянно вставал на защиту Набокова, который своим творчеством был ему, пожалуй, ближе всех в эмиграции. Он выступил своего рода «разъяснителем» творчества Набокова для «эмигрантской словесности», которая, по его выражению, «боится новизны пуще сквозняков». Он приветствовал появление «Дара», который многих насторожил и попросту разозлил (не говоря уже о том, что вставную главу, посвященную Чернышевскому, в «Современных записках» просто отказались печатать). Кстати, под именем Мортуса в романе изображен Адамович (и отчасти Гиппиус).
13 февраля 1937 года Ходасевич писал в «Возрождении», очевидно, использовав в статье произнесенную им на вечере Набокова 24 января того же года речь: «При тщательном рассмотрении Сирин оказывается по преимуществу художником формы, писательского приема, и не только в том общеизвестном и общепризнанном смысле, что формальная сторона его писаний отличается исключительным разнообразием, сложностью, блеском и новизной. Все это потому и признано, и известно, что бросается в глаза всякому. Но в глаза-то бросается потому, что Сирин не только не маскирует, не прячет своих приемов, как чаще всего поступают все и в чем Достоевский, например, достиг поразительного совершенства, — но напротив: Сирин сам выставляет их наружу, как фокусник, который, поразив зрителя, тут же показывает лабораторию своих чудес. Тут, мне кажется, ключ ко всему Сирину. Его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые, точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут, приколачивают, малюют, на глазах у зрителя ставя и разбирая те декорации, в которых разыгрывается пьеса. Они строят мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персонажами…»
Его взгляд на творчество Набокова, в частности на «Приглашение на казнь», оспаривался, конечно, не только Адамовичем. Один из представителей «парижской ноты», прозаик, критик и мыслитель Владимир Варшавский, писал уже после войны в своей книге «Незамеченное поколение»: «Мне лично настойчиво представляется объяснение почти противоположное объяснению Ходасевича. <…> Такое же завороженное царство (имеется в виду гоголевское царство „мертвых душ“ в более широком плане. — И. М.) окружает и Цинцинната. Это, действительно, бред, но вовсе не творческий бред самого Цинцинната, а бред, существующий против его воли, и вполне объективно. Это именно тот „общий мир“, за которым стоит вся тяжесть социального давления и который всем представляется единственно реальным. Но только в „Приглашении на казнь“ „омертвение“ этого „общего мира“ пошло еще дальше. Действие романа происходит в каком-то неопределенном будущем, после того как тотальная социализация всей жизни привела к упадку культуры и вырождению человечества». Эта запоздалая полемика уже вовсе не в ключе Адамовича, а со знаком плюс, с полным признанием и пониманием Набокова…