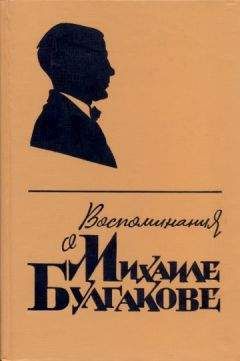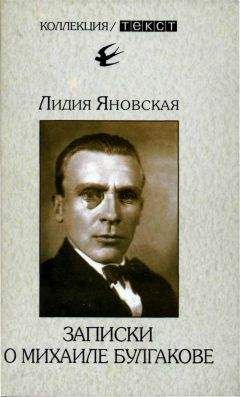Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе
Хуже было с фитилем. Я приметил его у Брониславы Александровны; мужа ее, высланного из-за немецкой фамилии, мобилизовали на трудфронт, она жила одна. В ее скудной комнатушке с глиняным полом, похожей на погреб, с прорезанным, как в подземелье, окошечком, дымила «буржуйка». Дрова дрянные, какие-то сыроватые сучья, словом, джингиль, а не саксаул. Дед Миронов надул ее. В комнате мороз. Она лежит, навалив на себя все носильные вещи. Хорошо еще, что соседка добрая, сама еле дышит и обвешана детьми мал мала меньше, а помогает: берет хлеб, торчит в очередях. А муж всегда был сухой, узкий человек, не понимал ее запросов. Собирался починить окно. Не починил, забыл, уехал. Рама отстает, в щель забиты старые носки, но все равно дует. Боже мой, а из окошка — мертвая степь…
— Вы бы вышли на воздух, — говорю я. — Прошлись бы на базар. У вас много барахла, можно обменять. А кроме того, там собирается светское общество…
— Ах, вы еще можете шутить!
И пошли-поехали воспоминания о пасхальной Москве, о Художественном театре, о Василии Ивановиче Качалове, о его Берендее, о его Анатэме, о незабываемом его Иваре Карено, о бароне в «На дне». Она не пропускала ни одного спектакля с ним, писала ему письма и получала от него. Вот афиши, вот программки, уже пожелтевшие, вот его фотографии. Я не выдержал. Схватив фитиль, подаренный ею, я прервал ее, не очень деликатно, и заспешил домой.
Теперь предстояло завладеть пробкой, крупной, нужного размера. Я приметил ее у соседского мальчишки.
— Даю сто рублей, — сказал я с маху, чтобы ошеломить его.
Он посмотрел на меня дико. Вокруг собрались мальчишки, наблюдая за необыкновенным торгом. Они шептались.
— Теперь на базаре за все дают сто рублей, а тут как-никак пробка, — сказал кто-то.
— Ага, — сказал владелец пробки.
— А в придачу спичечный коробок с нарисованным кораблем, — в рассеянности сказал я, сообразив, что ошибся, сразу назначив столь большую сумму.
Они деловито рассматривали коробок.
— Да ведь поломатый, — неопределенно произнес владелец пробки.
— Подклеить можно. Я тебе сам подклею. — И тут меня осенило. Я извлек трюфельку Райзмана.
— Это еще что такое? — спросил владелец пробки, уставившись на конфету.
— Шоколадная трюфелька волшебных свойств, — сказал я и подобно змию-искусителю, развернул бумажку. — Не откусывай, но можешь лизнуть. И каждый может лизнуть, только без нахальства.
Все лизнули кончиком языка, очень осторожно.
Это был удар! Это вам не какие-нибудь паршивые сто рублей.
Бог мой, чиилийские мальчики ни до войны, ни сейчас, никогда не ели ничего подобного! И мне была протянута пробка, а я вручил трюфельку и в придачу к ней спичечный коробок с нарисованным парусником. Мальчики поскакали прочь, чтобы в укромном месте насладиться волшебной сладостью, а я, вернувшись в свой запечный угол, принялся за сооружение осветительного прибора новейшей конструкции.
В пробке было проделано отверстие и вставлена жестяная трубочка парикмахерши Раечки, в трубочку я просунул фитиль небесной женщины Брониславы Александровны, а затем, наполнив пузырек Соломона Лазаревича керосином, подаренным Ганей, плотно вжал пробку в горлышко пузырька. Фитиль можно было вытягивать больше или меньше, прибавляя и убавляя по желанию величину огня. И вот 17 марта 1943 года моя чиилийская электростанция была пущена в эксплуатацию! Я мог работать вечерами!
При появлении моем на улице мальчишки кричали:
— Да здравствует король трюфелек! Дядечка, нет ли у тебя еще! Мы достанем тебе еще сто пробок!
— Ничего у меня больше нету, но уверяю вас, братцы, я еще выдумаю что-нибудь!
Я стал знаменит. Волшебник! Писатель! Таинственный человек!
Никогда раньше я не был таким знаменитым (как никогда не был и потом), как тогда, в Чиилях. Библиотекарша смотрела на меня в потрясении, ибо никто, кроме меня, к ней не приходил, и позволяла мне рыться в беспорядочной груде книг, брать с собой на дом что мне нужно; я брал разрозненные номера «Исторического вестника», сохранившегося с незапамятных времен, историю Соловьева в дореволюционном издании, географическое описание России Семенова-Тян-Шанского и многое другое из старых книг, которые считала она хламом. А когда однажды пошел в сопровождении Гани и Настеньки в железнодорожный клуб, где показывали фильм С. Герасимова «Маскарад», то чувствовал, что на меня устремлены глаза любопытных и прокатился шепот. Ганя шла гордая.
Ох, ни к чему мне была эта слава! С экрана глядели на меня знакомые лица — Софочка Магарилл, Тамара Макарова, Герасимов, Мордвинов… Но на душе было неспокойно. И не зря.
Вскоре вызвал меня мой опер.
Уставившись на меня мрачным взглядом из-под нависших бровей, он спросил:
— Пишешь?
Тут вспомнились мне слова генерала (тогда еще, кажется, полковника) М. Г. Черняева, славянофильствующего участника похода на Ташкент, сказанные им в шестидесятые годы прошлого столетия: «Три пути ведут в Джулек (это рядом с Чиилями), один из них называется разбойничьей дорогой». Вот этот, с нависшими бровями, которому я подвластен, пришел сюда, несомненно, разбойничьей дорогой и может делать со мной все, что захочет. Глядя на него с ненавистью, так же как он на меня, я ответил:
— Пишу.
— Продолжаешь, это само, свою контрреволюционную деятельность на бумаге?
— Контрреволюцией не занимался и не занимаюсь.
— Интересно. А мне вот один мой кзыл-ординский товарищ, между прочим, сообщил, что выслали тебя за то, что ты написал что-то про дьявола. Соответствует?
Я насторожился. Лена писала мне, что в Ташкенте она дает читать «Мастера и Маргариту» очень многим писателям. Я советовал ей быть поосторожнее, потому что народ там был разный. Но неужто слухи о романе долетели до Кзыл-Орды? В это трудно было поверить, но все же…
Я посмотрел на разбойника и ответил с нарочитой грубостью:
— А ты бы поменьше верил дурацким слухам. Еще какого-то дьявола вздумал мне навешивать!
— Но-но, потише! У нас тут дураков нету, зазря не треплются, контра! — Он прихлопнул печать в очередную клеточку и добавил: — Вот понаведаюсь самолично и пороюсь, что там у тебя в твоих тетрадочках. Отвечай за тебя, это само.
Явышел. Начинало темнеть. Исчез рынок, будто растворился в воздухе. Так исчезают призраки. На саманных амбарах висели замки, ветер гнал по опустевшей площади охапки соломы. Мгновенно все вымерло вокруг. Наступала безлунная ночь. Воображение работало взбудоражено.
Ганя уже спала. А я сидел под тусклой своей коптилкой, освещавшей кусок бумаги, и силился писать. Надо работать, плетью обуха не перешибешь, будь что будет, — руки мои скручены, но голова свободна: не засорять ее пустыми страхами. И никто не посягнет на эту мою свободу! И я думал о Булгакове, когда он, зная, что умирает, исправлял строчки и отдельные слова в своем последнем романе. А я не умираю. Я не имею права умирать. Только один раз смалодушничал — в Лефортове. Но ведь я был невменяем, бессонница довела. Нет, теперь не то! Все худшее позади.