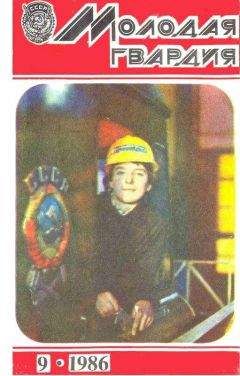Эраст Кузнецов - Павел Федотов
Русская художественная критика того времени была весьма слаба. В ней еще не видно было не то чтобы своего Белинского, но хотя бы Николая Полевого. Она только-только начиналась.
Безымянным рецензентом «Современника» был, как это установили уже в наши дни, Виктор Гаевский, человек талантливый и умный, но образованный более в литературе, чем в живописи. Он страстно и убедительно обосновал поворот живописи к правдивому изображению повседневной жизни, сославшись на успехи «натуральной школы»; именно ему принадлежат слова о том, что «гнев чиновника на свою кухарку в одинаковой степени достоин внимания искусства, как и гнев Ахиллеса», — слова великолепные, по праву вошедшие в историю русской критики.
Однако рядом с именем Федотова у него то и дело мелькало имя того же Риццони (который, будучи на несколько лет моложе Федотова, умудрился лишь год не дожить до Первой мировой войны, ничем больше не отличившись); да все три картины самого Федотова в отзыве Гаевского шли ровно, как тройка у хорошего ямщика. Вряд ли критик понимал, насколько несоизмеримы они по своему художественному качеству, и, скорее всего, вряд ли придавал этому серьезное значение. Обращение к реальности само по себе было ему дороже всего; принцип был важнее картины.
Второй (снова безымянный) рецензент из «Отечественных записок» также поставил в один ряд Федотова и Риццони, а к ним добавил еще Алексея Чернышева и Николая Сверчкова. Правда, он отмечал, что «по богатству мысли, драматизму положения, обдуманности подробностей, верности и живости типов, по необыкновенной ясности изложения и истинному юмору первое место в картинах этого рода должно принадлежать г. Федотову», и сравнивал эти картины с повестями Гоголя, но тут же оговаривался, что они «уступают произведениям г. Риццони, Чернышева и Сверчкова в тщательности отделки, которая у последних напоминает Миериса», вновь возвращая нашего героя в ту обойму имен, которая сейчас выглядит странно.
Пожалуй, публика воздала Федотову гораздо вернее, слишком наглядно отделив его своей симпатией от Риццони и от Чернышева со Сверчковым. Оно и понятно: те предлагали зрителям «Комнату для курения в трактире Брюсселя», «Внутренность чухонской избы» да «Гауптвахту в Мюнхене» — картины статичные, лишенные выпуклых характеров и драматического действия, в то время как Федотов в каждой своей картине разворачивал целый спектакль из жизни, насыщенной действием и богатыми характерами, позволяющий понимать предшествующее и догадываться о последующем.
Впрочем, и публика, радуясь узнаванию знакомой ей реальной жизни, восхищаясь тем, что эта реальная жизнь может быть запечатлена в живописном произведении, ухватила в его картинах гораздо менее того, что он ей давал, особенно в «Сватовстве майора». Картины его сделали сенсацию, однако сенсация эта лишь отчасти была вызвана их художественными достоинствами, а в большей мере — самой их новизной.
Собственно, так было даже в несравненно более зрелой литературе. И там вкус к злобе дня не раз оказывался способен возобладать над высокими критериями художественности. Что же говорить тогда о живописи, которая едва начинала по-настоящему входить в духовную жизнь общества; что же говорить и об обществе, которое, в свою очередь, едва начинало приспосабливаться к живописи, видеть в ней самостоятельную духовную силу и учиться понимать ее именно как живопись, а не как удобозримое отражение литературы.
Догадывался ли Федотов о том, как неполно прочитываются его картины? Как бы то ни было, триумф есть триумф, и грех им не поупиваться. Настроение было отличное, планы громоздились один на другой.
Для одной из задуманных картин потребовалась ему комната о трех окнах и непременно на теневую сторону. Верный правилу во всем придерживаться натуры, вздумал он переменить квартиру. Несколько месяцев искал, наконец нашел — с комнатой на теневую сторону и тремя окнами — и переехал на 21-ю линию в дом Навроцкой, в том квартале, что между Невой и Большим проспектом.
Прежняя квартира была, бесспорно, нехороша, однако новая оказалась не лучше: шило сменял на мыло. Такой же маленький деревянный домик, ход через двор с ветхими сараями, клетушками и флигелем; тесные сени, чуланчик, который Коршунов тотчас же оклеил картинками, комната побольше, в которую Федотов вывалил все свое имущество — и бюст Венеры Медицейской, и проволочную голову, и гипсы, и мольберт, и гору папок, картонов, подрамников; опять заставил окна снизу, и уже новая квартира как две капли воды стала похожа на прежнюю, даром что в той было два окна, а в этой три, да и стоила она подороже — пять рублей в месяц.
Помимо столь необходимых для картины трех окон, новая квартира обладала еще одним достоинством. Высунув голову в окно, можно было видеть напротив, по 20-й линии, длинный деревянный забор и ворота, а повернув голову направо и слегка вытянув шею, — знакомое здание казарм лейб-гвардии Финляндского полка, занимавшего конец квартала, у Невы.
Дружинин, проходя как-то по 21-й линии, услышал вдруг стук в стекло и, обернувшись, увидел за окном Федотова вместе с Коршуновым. «Мы с вами опять финляндцы, — крикнул ему Федотов. — Входите же поскорее, теперь мы будем видеться всякий раз, как вы того захотите». Дело в том, что Дружинин к тому времени занимал сразу две квартиры, обе неподалеку, и новая квартира Федотова находилась как раз на середине пути между ними.
Этим все преимущества нового дома и исчерпывались. Снова было нестерпимо холодно и сыро, да еще за стеной у соседей оказалась куча детей, которые чуть ли не круглые сутки шумели. Правда, Федотов скоро привык к шуму и приучил других и самого себя к мысли, будто шум ему даже приятен. «Без них я бы умер с тоски… Разве это возмутители тишины? Это жизнь! да не моя и ваша, а веселая, беззаботная, счастливая, святая жизнь!» — говорил он зашедшему к нему Можайскому. Может быть, и в самом деле так?
Смешнее (или грустнее) всего было то, что за время поисков квартиры и переезда лелеемый замысел картины сам собою угас (мы даже не знаем, в чем он заключался), и получилось, что трогаться с места было ни к чему, равно как и переплачивать лишнее.
Здесь, в новых стенах, он работал над совсем иной картиной, для которой не нужны были ни пресловутые три окна, да вообще ни одного окна. После долгих проб и терзаний он остановился на сюжете, который, право же, был нисколько не лучше уже отвергнутых и тоже не предлагал Федотову то новое, что смутно мерещилось ему. Может быть, просто потому и остановился, что сюжет был свеж, только что отыскан в полугодовой давности книжке «Современника», подвернувшейся под руку.
Привычка перебирать старые журналы и раньше его выручала. Идею сепий про болезнь и кончину Фидельки он нашел себе в одиннадцатом номере «Вестника Европы» за 1819 год в строках: «Когда пожилая барыня не хочет ни есть, ни пить с печали, значит, околела ея моська…» Сейчас же он наткнулся на фельетон о светских людях, которых «вводит в дурной тон боязнь и ложный стыд, чтобы не сочли их хуже других», и ради того, чтобы щегольски одеваться, они «согласятся два месяца дурно обедать». Неизвестный автор фельетона (позднее установили, что то был молодой Иван Гончаров) замечал: «А пробовал ли ты нечаянно приезжать к таким людям домой и заставать их врасплох?» — словно подсказывая завязку для картины.