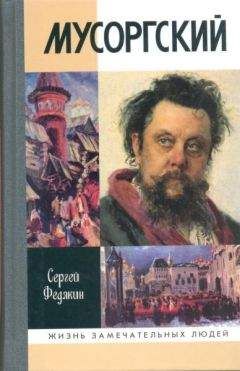Скрябин - Федякин Сергей Романович
В Беатенберге композитор снова встречается с Неменовой. Она привезла подарок из Москвы — самовар, и Скрябин рад, как ребенок. Бывшая ученица снова горит желанием заниматься, разучивает с композитором его произведения. Скрябин играет новое: поэму, которая войдет в ор. 52, и другую, странную, прелестную пьеску, которая будто бы и не заканчивалась, а застывала в воздухе вопросом. Скрябин улыбался: отгадать наименования никто не мог. А пьеса с «вопросом» так и называлась: «Загадка».
Очарованная Неменова, помня его «хождения по издателям», пытается узнать, куда же композитор понесет новые вещи. Скрябин, забавно скорчив грустную мину, объявил: «Открываю лавочку». С Попечительным советом он помирился, но давняя идея попробовать издавать самому все еще волнует воображение.
Появляется в Беатенберге и Альтшулер, успевший съездить в Россию за помощью своему «Русскому оркестру» в Нью-Йорке. Он хочет ставить «Поэму экстаза» и надеется на советы композитора, с которым проходит еще неоконченное произведение. Новый американец подумывает о грандиозной постановке с теми световыми эффектами, о которых Скрябин говорит все настойчивее. Замысел воплотится в конце 1908 года. «Светомузыки» при исполнении «Экстаза» не будет, но энергичный американец опередит русских в своем усердии: первое исполнение в России произойдет на месяц позже нью-йоркского.
Альтшулер полон энергии и веселья, он сыплет анекдотами. Скрябин по-детски смеется, иногда, совсем расшалившись, сам рассказывает, а то и показывает забавные сценки из своей кадетской жизни и, как мальчик, скачет через стулья.
Композитор снова бодр душой, часто бродит со знакомыми по холмам, лесам. Но благообразная Швейцария уже наскучила ему, она раздражает его своим вполне буржуазным порядком. Куда ни зайдешь, — заметит Скрябин, — даже в самое глухое, почти первобытное место, все равно встретишь на дереве адрес и условия проживания в каком-нибудь пансионе.
В один день, начав с пикника далеко от места проживания, вся компания вернулась домой к ночи. Развеселившись, русские шатались по ночному городку и шумели, нарушая покой аккуратных швейцарцев. Скрябин был в ударе: острил, пародировал, фантазировал. Его воображение, все еще заметно напитанное идеями социализма, не знает успокоения: «Когда отменят деньги — я наводню мир своими сочинениями!» Он наивно полагал, что «каждому по потребностям» должно наступить сразу за отменой денег. А раз не надо думать о пропитании, то можно целиком отдаться творчеству. Один остряк из дружеской компании на причудливую мечту композитора ответил шуткой: «Чтоб мир не утонул в ваших, Александр Николаевич, сочинениях, деньги не отменят никогда…»
Деньги, деньги, деньги… Их отсутствие угнетало. Но партитура «Поэмы экстаза» двигалась к концу, и композитор чувствовал настоящий подъем. Рано утром, после ночных гуляний, Неменова увидит Скрябина на его маленьком балкончике, утопающем в лучах солнца. Александр Николаевич работал.
А все-таки и «деревенский» Беатенберг, выбранный на лето ради дочери, успел превратиться в тюрьму. Они давно уже «осторожничали» с деньгами, заранее приготовили и сумму на переезд. Но все сорвалось, когда Альтшулер, уже купивший билет в Америку, не дождался перевода из Нью-Йорка. Скрябин отдал ему все свои деньги, не оставив себе и копейки, получил от приятеля доверенность и был в полной уверенности, что уже завтра получит перевод за будущего исполнителя «Экстаза». Но в банк денег не поступило ни в тот день, ни на следующий. Как-то сразу ощутимее стали осенний холод и сырость. Пансион, в котором Скрябины обедали, должен был со дня на день закрыться. Пришлось занять сумму, чтобы послать телеграмму Альтшулеру на пароход. Ответа на телеграмму не пришло. Спасителем снова стала Морозова, и в конце сентября Скрябины едут в Лозанну. Здесь композитор дает авторский концерт, а после — снова работа над партитурой.
Он многое меняет в оркестровке, торопится завершить партитуру, чтобы его долгожданное детище успело попасть в список произведений, получивших Глинкинскую премию. Он работает почти без сна, дни и ночи напролет. Но «Поэма» все не хочет заканчиваться. Новые и новые переделки его тревожат: если в работе он никак не может поставить точку, то нет ли в произведении тайного изъяна?
В сентябрьском письме Арцыбушеву он пытается объяснить свою медлительность: «Только что послал телеграмму Совету, в которой сообщил Вам, что партитура будет отправлена мною в Лейпциг через 5 дней. Пишу эти строки на тот случай, если бы телеграмма почему-нибудь не дошла. Извините, что задержал «Поэму», но за последнее время я увидел возможность во многом усовершенствовать инструментовку и, конечно, не мог не осуществить всех намерений». Как и всегда, пять дней ничего не изменили. В октябре он уже пытается вымолить новую отсрочку: «Мне переслали из Парижа письмо Попечительного совета, на которое спешу ответить Вам и сообщить, что «Поэма экстаза», задержанная мною вследствие больших изменений в оркестровке, будет отослана в Лейпциг дней через 8». Но и этот срок сгорел, как и предыдущие. И 22 ноября (4 декабря) он снова просит извинения: «Мне бесконечно стыдно, что я на несколько дней задержал партитуру «Поэмы экстаза». Вот как это вышло: в тот день, когда я должен был ее послать в Лейпциг и отправил уже телеграмму Александру Константиновичу «expedie partition», я, перелистывая, с ужасом увидел, что целый отдел меня не удовлетворяет по инструментовке. Я был уверен, что переделаю его в несколько часов, а на самом деле это затянулось гораздо дольше».
Он не знал, что его задержки — лишь на руку Арцыбушеву, который так хотел избежать исполнения «Экстаза» в беляевских концертах. Но сам композитор работой был доволен: он написал действительно вершинную свою вещь. В письме к Альтшулеру говорит не без гордости: «А «Поэму экстаза» ты не узнаешь! Сколько нового! и детали в музыке и инструментовке! Я только последнее время начал быть ею доволен. Думаю, что будет недурно! Последние дни я никак не мог остановиться, открывал все новые и новые горизонты в инструментовке».
* * *
«Уж не сходит ли он с ума на почве религиозно-эротического помешательства?» Эта фраза Римского-Корсакова если и была «домыслом», то, по крайней мере, не была «умыслом». Это был взгляд «трезвого», далекого от всякой мистики Николая Андреевича на творчество композитора, пронизанного мистической идеей. Многие мемуаристы оставили свидетельство о странном, как бы слегка «опьяненном» взгляде Скрябина. Идея храма в Индии явно намекала на религиозную основу его сочинений, которые последовали за «Божественной поэмой». Сами пояснения композитора заставляли думать о чрезмерном «эротизме» его творчества. Но «эрос», лежавший в основе скрябинского творчества, имел мало общего с вульгарным пониманием этого слова.
«Раз мы пошли с Александром Николаевичем в Музей Лувра, — вспоминала Маргарита Кирилловна Морозова о парижских встречах с композитором, — но на картины мы не смотрели, так как он вообще мало ими интересовался, слишком он всегда был как-то одержим своей внутренней работой. Мы сели на диван и говорили главным образом о «Поэме экстаза». Александр Николаевич мне объяснил подробно, как он представлял себе самый экстаз. Как мировое, космическое слияние мужского и женского начала, духа и материи. Вселенский Экстаз — это эротический акт, блаженный конец, возвращение к Единству. Конечно, в этом эротизме, как и вообще в Скрябине, не было ничего грубого, сексуального. «Поэма экстаза» эротична в этом смысле слова, этот эротизм носит космический характер, и мне кажется, что в ней вместе с тем уже чувствуется какой-то отрыв от земли, который так сильно и окончательно отразился в последних произведениях Скрябина».
О творческом «эротизме» Скрябина скажет и Сабанеев. «Ведь Мистерия — это акт эротический, акт любви» — такие слова произнесет композитор в воспоминаниях. Земная любовь, — поведал своему будущему мемуаристу Скрябин, — это лишь отражение этой космической любви, слабое «подражание» ей. В земной любви за моментом крайнего напряжения наступает «расслабление». Там же, в «Мистерии», все закончится «исчезновением в небытие», «дематериализацией». Скрябин будет развивать идею, сообщив, что в мироздании полярность мужского и женского начала — тоже лишь «прообраз», что на высшем уровне «полярность будет лаской Единства по отношению к множеству». «Мне часто казалось, — вспоминает Сабанеев, — что какие-то странные и даже, быть может, страшные эротические грезы хранил про себя Скрябин в тайниках своего фантастического плана». На самом деле в скрябинских словах не было не только ничего «странного» и «страшного» — не было даже особой новизны.