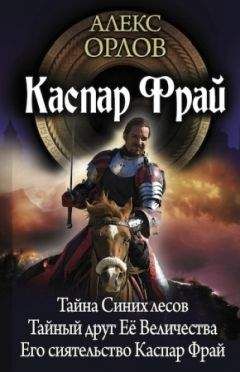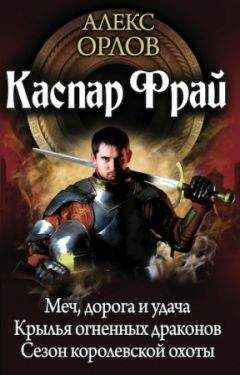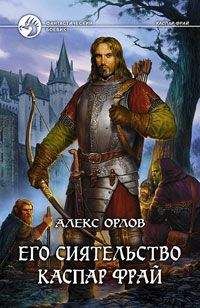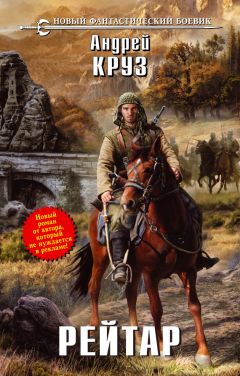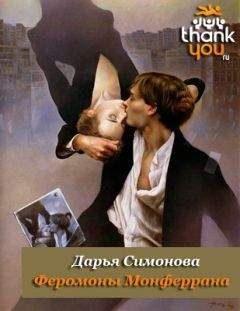Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы
– А то кто же? Ты без меня-то пропал бы совсем… Кушайте-ка!
Я вступил во вторительную.
– Бежи-ка, Мирон Петрович, за пирогом поскорее, – приказала супруга. – Они вот выкушают у меня еще третью, да уж тогда и закусят.
– Ха-ха-ха-ха! – радуясь изобретательности своей половины, раскатился Мирон Петрович и стремглав бросился за пирогом, с которым через секунду и стал передо мной, как лист перед травой.
– Ну-ко-сь! Всю, всю, всю! – подталкивала мою руку гостеприимная хозяйка и, таким образом, помогала ей опрокинуть в горло третью рюмку. – Всю, всю, всю! Нечего на кудри-то оставлять. Вы и так у нас кудрявы. Ну вот, так-то лучше! Теперь и в компанию милости просим, гостек дорогой!
– Так-то лучше! – подсмеивался тоже и Мирон Петров. – А то захотел дом без Троицы строить{252}…
Та ласка, с которой ввалили в меня сразу три громадных рюмки померанцевой водки, принудила мой организм с каким-то особенным удовольствием смотреть на все окружавшее меня. Теплота и комнаты, и влитого в меня спирта разлилась по всему моему телу и, расположивши глаза мои к самому розовому созерцанию, поминутно вызывала на мои губы нежнейшие улыбки. Сознавая, так сказать, милую неуклюжесть этих улыбок, я в одно и то же время и старался спугивать их с моих губ, и сердился на себя, зачем спугиваю, конечно, с отличной основательностью рассуждая при этом на следующей глубокомысленный манере:
«К чему тут сдерживаться? Это мир не такой!.. Все здесь так беззлобно, так просто… Веселятся люди эти редко, да зато от души…»
Улыбка, нежнейшая паче только что согнанной мной, снова, алым розаном, расцветала на губах; а хозяйка, как бы отгадывая мои молчаливые думы, уже стояла передо мной со своим фатальным подносом, на котором, вместе с дымящимся чаем, блестела и новая рюмка.
– У нас просто, – отвечала в лад мне угостительница. – Кушайте-ка… И когда я протянул было руку к тому углу подноса, на котором стоял чайный стакан, она грациозно повернула подносом, и рука моя вместо чая схватилась за рюмку.
– Перед чайком-то! Прошу покорно.
– Ну-ко-сь, Ну-ко-сь! – по своему обыкновению, торопливо подсказывал хозяин. – Ну-ко, ну-ко! Вот и я с вами для компании…
– Тебе-то не довольно ли будет? – спрашивала хозяйка, повертывая перед сожителем своим подносом таким манером, что рюмка, как молния, мелькала только перед носом сожителя, а в руки ему, как привидение, не давалась.
Эти супружеские эволюции производили в гостях наиприятнейшего качества дружественный хохот.
– Ха-ха-ха! Хи-хи! Хэ-э-э! – раздавалось в разных углах комнаты сдержанное грохотанье, покрываемое несколько насмешливыми трубными возгласами прачки-Петра, выкрикивавшего свое обыкновенное: тру-ру-ро-ри-дри!
– Ну, будет уж тебе! – ласково упрашивал хозяин. – Совсем ты меня ноне, девка, измучила.
– Ну, бери, да смотри ты у меня!.. Это последняя.
– Дело! – плутовски подмигнул хозяин. – Последняя у попа жена. Так ли я говорю, Иван Петрович?
– Так! – согласился я, стоя с рюмкой в руках. Хозяин чокнулся со мной, и мы выпили; а прачка-Петруха, точно как бы нарочно для сей цели нанятый трубач, оттрубил это выражение нашей дружбы сугубо варьированным маршем.
Пошло круговое потчевание, сопровождаемое супружескими понуканиями в обыкновенном роде: «ну-ко, ну-ко-ся, по всей!»
– Да, милые, – вырывался чей-нибудь утружденный голос, – ведь я уж пятую. Сейчас умереть, невмоготу!
– Бона! – вскрикнул хозяин, – сичас уж и считать принялся. Без пяти просвир обедня-то рази служится – а? Хе-хе-хе!
– Ах, забавники! Ах, потешники! – согласно гудел хор гостей в похвалу этих присловий и поднесений.
– Мы – потешники! – многозначительно хмыкал хозяин, соглашаясь с комплиментом гостей своей способности потешать их.
– Кого же нам и забавлять-то, как не дорогих гостей? – добавляла хозяйка. – Рази они у нас часты – гостьбы-то?.. Нет, по нонешним временам, часто-то не разгостишься…
– Где разгоститься! Нет, ноне времена-то… – с некоторой жесткостью в мягком голосе продолжил будочник Илюша хозяйкин протест против нынешних времен.
Трое рослых, с громадными, мозолистыми руками, столяров, живших в работе у Мирона Петровича, и которые, как гости не главные, давно уже без речей сидели вместе с Илюшей в дальнем углу комнаты, но теперь, при слове «нонешние» времена, тоже заявили свое присутствие, с какой-то скорбной отчетливостью заговоривши в один голос:
– Нонешние времена-то, ежели, к примеру, правду-то матушку говорить, – не-ет! В их не зарадуешься… Не с чего…
– Куша-кос! Берись, дядя Трофим!.. Дядя Микит! качни-ка во славу Божию! – подскочила и к этой полузабытой группе угостительная хозяйка, как бы утешая ее в ее прискорбии, по случаю негодности разнесчастного нынешнего света.
– Ах, ваше степенство! Мать ты наша! Без тебя што бы наша за жисть? – какими-то тягучими, так сказать, рабскими басками взывали столяры, вливая в себя, в некотором роде, предлагаемое.
Продавец кваса. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция
Хозяин между тем на разные манеры прыгал предо мной со своим, еще несмысленным, наследником, поднимал его на руках к самому потолку, агукал, заставлял плясать русскую, причем и родитель, и я, и сидевшая с нами какая-то старушка-купчиха, очевидно, самая почетная гостья, изображали из себя тилиликающих губами разные вариации музыкантов; а ребенок, повинуясь отцовским рукам, семенил ножками и блаженно улыбался. Я, – трудно мне в этом признаваться печатно, – улыбался еще блаженнее…
– Наследник-с, Иван Петрович! – взывал Мирон Петров, лаская ребенка. – Как есть, законный наследник! Все для него… А-ах-х, милый барин! Одна только утеха и есть – он-н!
– Ну тоже эфти наследники! – вступилась в наш разговор почетная старушка. – Тоже ими, Мирон Петрович, я тебе прямо скажу, подождать надоть хвастаться-то… Я вот вам расскажу про наследника-то про одного, – пообещалась старушка, обращая свою речь ко всей компании. – Была я, голуби мои, вот тоже по нонешней осени в гостях у одной – у богатой. И вижу я: входит в залу барин какой-то, молодой еще, с черной с эвдакой козлиной бородкой, в золотых очках. Поддевка, этта, на ем, ангелы вы мои, такая короткохвостная, что как только он, этта, спиной обернется, так все со смеху и покатываются. Я и спрашиваю: чей это, мол, барин такой? Как его по прозвищу величают? А мне и говорят: «Да разве ты не узнала? Ведь это не барин, а Петька Коленкин, у какого, говорят, в городе две лавки». Я и вспомнила, как это при матери его еще при покойнице (дружьё мы с ней были – водой не разольешь!) я его за вихры дирывала. Вспомнила я это и говорю ему: что же это ты, Петька, расканальин сын, заспесивелся? Поди-ка ты, мол, сюда, – я тебе, по старой памяти, волосья-то твои напомаженные своей рукой завью. А он, разбойник силы небесные! тому ли, как вспомнишь, злодея эдакого отец с матерью учивалили, – а он, разбойник подошел и смеется. А? Над старым-то человеком?.. Вертит, вертит вот эдак, золотые мои, хвостом-то своим и смеется. Я ему и говорю: что же это ты, Петрушка, али забыл, как с вашим братом старые люди за такие дела расправляются?.. И все нет тебе от него, от паскудника, почтения! А все это смех один, все смешки, – так это на губах бегают одни смешки, милые мои, а нет тебе ни единого слова. Вот они как, эти наследники-то!