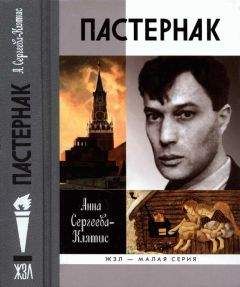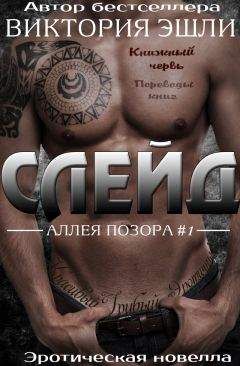Анна Сергеева-Клятис - Пастернак в жизни
Я сказал: «Я понимаю, что это конгресс писателей, собравшихся, чтобы организовать сопротивление фашизму. Я могу вам сказать по этому поводу только одно. Не организуйтесь! Организация – это смерть искусства. Важна только личная независимость. В 1789, 1848, 1917 годах писателей не организовывали ни в защиту чего-либо, ни против чего-либо. Умоляю вас: не организовывайтесь!»
(Пастернак Б.Л. [Воспоминания о Конгрессе] Берлин И. Встречи с русскими писателями. 1945 и 1956 гг. // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 490)* * *Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником.
(Пастернак Б.Л. Выступление на Международном конгрессе писателей в защиту культуры, 1935 г. // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 5. С. 229)* * *Никогда еще парижане не проявляли столько жара и симпатии к русским. Но делегации был дан строгий наказ не якшаться с эмигрантами. А тут… В столовую, где мы обедали, вдруг ворвалась Марина Цветаева. Бросилась ко мне. Я представил ее всей остальной делегации: Тихонову и другим. Завязалась общая живая беседа. Марина хотела возвратиться в Россию. Я жаждал этого страстно и не мог сказать ей: приезжайте. И не мог объяснить, почему приезжать не надо. Париж встречал нас восторженно, демонстрации, приветствия, цветы, не только на конгрессе – на улицах, в фойе, в театрах, в гостинице. Русских любили.
(Пастернак Б.Л. [Воспоминания о Конгрессе] Гонта М.П. Мартирик // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 255)* * *29 июня. Вечером на бульваре Сен-Жермен встретил Пастернака. Он первый раз в Париже, перемена места сильно действует на него. Он жалуется на болезнь. В течение зимы он очень много работал. Лицо у него по строению форм и выражению красивое. Приехал на конгресс писателей. Уезжает, по-видимому, четвертого июля. Простились мы со словами: до встречи в Москве.
(Радько К. Дневники. Воспоминания. Статьи. М., 1974. С. 112)* * *Летом 1935 года я, сам не свой и на грани душевного заболевания от почти годовой бессонницы, попал в Париж, на антифашистский конгресс. Там я познакомился с сыном, дочерью и мужем Цветаевой и как брата полюбил этого обаятельного, тонкого и стойкого человека. Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию. Частью в них говорила тоска по родине и симпатии к коммунизму и Советскому Союзу, частью же соображения, что Цветаевой не житье в Париже и она там пропадает в пустоте, без отклика читателей. Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счет не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и неспокойно. Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения.
(Пастернак Б.Л. Люди и положения)* * *Дорогой Б<орис>, я теперь поняла: поэту нужна красавица, т. е. без конца воспеваемое и никогда не сказуемое, ибо – пустота et se prête à toutes les formes[213]. Такой же абсолют – в мире зрительном, как поэт – в мире незримом. Остальное все у него уже есть. У тебя, напр<имер>, уже есть вся я, без всякой моей любви направленная на тебя, тебе экстериоризировать меня не нужно, п.ч. я все-таки окажусь внутри тебя, а не вне, т. е. тобою, а не «мною», а тебе нужно любить – другое: чужое любить.
И я дура была, что любила тебя столько лет напролом. <…> Ты был очень добр ко мне в нашу последнюю встречу (невстречу), а я – очень глупа.
(М.И. Цветаева – Б.Л. Пастернаку, июль 1935 г. // Цветаева М.И., Пастернак Б.Л. Души начинают видеть: письма 1922–1936 гг. С. 554)* * *Позавчера приехал Пастернак с группой других[214]. Он в ужасном морально-физическом состоянии. Вся обстановка садически-нелепая. Писать обо всем невозможно. Расскажу. Сегодня они все отплывают. Он даже газеты читать не в состоянии. Жить в вечном страхе! Нет, уж лучше чистить нужники![215]
(Р.Н. Ломоносова – Ю.В. Ломоносову, 6 июля 1935 г. // «Неоценимый подарок»: Переписка Пастернаков и Ломоносовых (1925–1970) // Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1994. Т. 17. С. 378)* * *Эта поездка была для меня мученьем: ездил больной человек. Может быть, мне это все – наказанье за тебя, за твои когдатошние страданья (хотя какая тут логика: ведь и я их тогда же тоже разделял).
Вот доказательство того, до чего мне было тоскливо, до чего я был в поездке болен душою. В Берлин из Мюнхена приехали Жоня с Федей, а старикам по телефону в Мюнхен я обещал, что на обратном пути к ним заеду и у них отдохну. И я не сдержал слова и их не увидел! Я их не увидел так же, как не писал тебе, как помешал тебе быть на вокзале, как не привез Женёнку ничего стоящего – но если бы вы имели понятье о пытке этого путешествия!
Зато ведь я познакомился в Лондоне с Р<аисой> Н<иколаевной>[216]! Как они (Юрия Владимировича не было – он в Германии на курорте) – т. е. Р<аиса> Н<иколаевна> и Юр<ий> Юр<ьевич> (Чуб) – вас любят! Только о вас, о тебе и о Женичке и говорили! Но и там, в Лондоне, я был совсем разварной, бессонный, измученный, нравственно пришибленный – воображаю, каким разочарованьем было для нее знакомство со мной! Я почти ничего не привез тебе и особенно – Женёчку, т. е. такие пустяки, что о них нечего говорить. Но вся эта поездка была бредом, мученьем: я ее не считаю своею, она не состоялась!
(Б.Л. Пастернак – Е.В. Пастернак, 16 июля 1935 г.)* * *О тебе. Тебя нельзя судить как человека, ибо тогда ты – преступник <вариант: чудовище>. Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери, на поезде – мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет – не жди. Здесь предел моего понимания, нашего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, обратное тебе: я на себе поезд повезу, чтобы повидаться (хотя, м. б., так же этого боюсь и так же мало радуюсь). Не проси понимания от обратного (обратнее нет. Моя мнимая резкость). И здесь уместно будет одно мое наблюдение: все близкие мне – их было мало – оказывались бесконечно мягче меня, даже Рильке мне написал: Du hast recht, doch Du bist hart[217] – и это меня огорчало, п.ч. иной я быть не могла. Теперь, подводя итоги, вижу: моя мнимая жестокость была только – форма, контур сути, необходимая граница самозащиты – от вашей мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Б. Пастернак. Ибо вы в последнюю минуту отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между вами, нечеловеками, я была только человек. Я знаю, что ваш род – выше, и мо́й черед, Борис, руку на сердце, сказать: О, не вы! Это я – пролетарий. <…> О вашей мягкости. Вы – ею – откупаетесь, затыкаете этой ватой <над строкой: гигроскопической> дыры <варианты: зевы, глотки> ран, вами наносимых, вопиющую глотку – ранам. О, вы добры, вы при встрече не можете первыми встать, ни даже откашляться для начала прощальной фразы – чтобы не обидеть <над строкой: человек не подумал, что…>. Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда. И оказываетесь в Москве, Волхонка, 14, или еще дальше. <…>