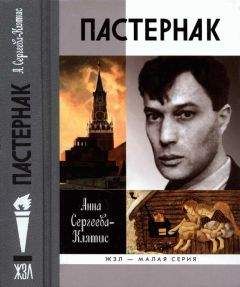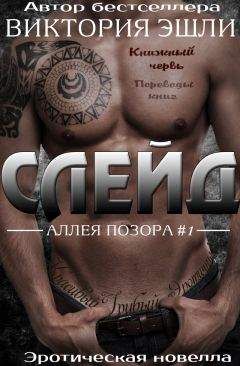Анна Сергеева-Клятис - Пастернак в жизни
Есть нормы поведения, облегчающие художнику его труд. Надо ими пользоваться. Вот одна из них: если кому-нибудь из нас улыбнется счастье, будем зажиточными, но да минует нас опустошающее человека богатство. «Не отрывайтесь от масс», – говорит в таких случаях партия. У меня нет права пользоваться ее выражениями. «Не жертвуйте лицом ради положения», – скажу я в совершенно том же, как она, смысле. При огромном тепле, которым окружает нас народ и государство, слишком велика опасность стать социалистическим сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой, и реальной, и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим ее людям, на деловом и отягченном делами и заботами от них расстоянии. Каждый, кто этого не знает, превращается из волка в болонку…
(Пастернак Б.Л. Выступление на I Всесоюзном съезде советских писателей // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 5. С. 228)* * *Поведение и отдельные неловкие поступки Б.Л. часто вызывали смех и улыбки. Во время работы Первого съезда писателей в Колонный зал пришла с приветствием делегация метростроевцев. Среди них были девушки в прорезиненных комбинезонах – своей производственной одежде. Одна из них держала на плече тяжелый металлический инструмент. Она встала как раз рядом с сидевшим в президиуме Пастернаком, а он вскочил и начал отнимать у нее инструмент. Девушка не отдавала: инструмент на плече – рассчитанный театральный эффект – должен был показать, что метростроевка явилась сюда прямо из шахты. Не понимая этого, Б.Л. хотел облегчить ее ношу. Наблюдая их борьбу, зал засмеялся. Пастернак смутился и начал свое выступление с объяснений по этому поводу.
(Гладков А.К. Встречи с Борисом Пастернаком. С. 74)* * *И когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы Метростроя тяжелый забойный инструмент, названия которого я не знаю (смех), но который оттягивал книзу ее плечо, – мог ли знать товарищ из президиума, вышутивший мою интеллигентскую чувствительность, что в многоатмосферных парах, созданных положением, она была в каком-то мгновенном смысле сестрой мне, и я хотел помочь близкому и давно знакомому человеку.
(Пастернак Б.Л. Выступление на I Всесоюзном съезде советских писателей // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 5. С. 227–228)* * *Я не буду описывать в подробностях <…>, как весной девятьсот первого года в зоологическом саду показывали отряд дагомейских амазонок. Как первое ощущение женщины связалось у меня с ощущением обнаженного строя, сомкнутого страданья, тропического парада под барабан. Как раньше, чем надо, стал я невольником форм, потому что рано увидел на них форму невольниц.
(Пастернак Б.Л. Охранная грамота)* * *Я не досидел до конца съезда и уехал после речи Стецкого, до заключительного слова Горького[209].
Первые дни по приезде сюда я мечтал Вам ответить с пространностью, которая и мне была бы на пользу, потому что упорядочила бы мои впечатления от съезда, но потом засел за работу, которая всегда идет хуже моих расчетов, и так вот прошел месяц.
Теперь вижу, что лучше на все эти темы поговорить при встрече (ведь Вы, наверное, в начале зимы в Москву соберетесь?), и не уверен, не больше ли потребность в таком разговоре у меня, чем у Вас.
Дело в том, что хотя Вас насчет телефона и не обманули (был он весною, а не перед съездом) и отношенье ко мне на съезде было совершенной неожиданностью, но все это гораздо сложнее, чем может Вам представиться, а главное: по косвенности поводов, связывающих эти вещи со мной, – серее и непраздничней[210].
И уже допустил я неправильность, начав под влияньем Вашего письма с себя. Ведь ту же нескладицу, в гораздо большем значеньи, для всех нас и для меня, представлял самый съезд, явленье во всех отношеньях незаурядное. Ведь более всего именно он поразил меня и мог бы поразить Вас непосредственностью, с какою бросал из жара в холод и сменял какую-нибудь радостную неожиданность давно знакомым и все уничтожающим заключеньем.
Это был тот уже привычный нам музыкальный строй, в котором к трем правильным звукам приписывают два фальшивых, но на этот и в этом ключе была исполнена целая симфония, и это было, конечно, ново.
(Б.Л. Пастернак – С.Д. Спасскому, 27 сентября 1934 г.)* * *Усиленное подчеркивание значения Пастернака на 1-м съезде советских писателей, смутившее многих и понятое ими как установка на «чистую», то есть необщественную, узко личную лирику, было на самом деле правильной установкой на свободу и самозаконность поэта, ибо поэт разговаривает с эпохой без чужого посредства и принимает ее веления непосредственно из ее уст. Поднимая на щит Пастернака, мы поднимаем на щит не «чистоту» и камерность его поэзии, а его верность своему дарованию.
(Святополк-Мирский Д.П. Заметки о стихах // Знамя. 1935. № 12. С. 231)Международный конгресс писателей в защиту культуры. Париж, июнь 1935
Мне 45 лет. По-видимому, просто это как-то неожиданно наступила старость. Зимой я чувствовал себя прекрасно, не мог нахвалиться на свое здоровье, как вдруг с середины апреля пошли у меня бессонницы и прочие нервические неожиданности, еще менее приятные, вскоре охватившие весь организм, с сердцем, кишечником и даже мозгами, поскольку в последнем именно сосредоточен запас всяких навязчивых идей, дурных настроений и совершенно особенной, физически осязательной тоски. У меня нашли расширенье сердца, разные неврозы, велят бросить курить, выработать медленную (сенаторскую) походку, не подымать тяжестей, и пр., и пр. Я себя чувствую нехорошо и к тому же еще чудно́, странно, т. е. не во всем себя узнаю.
(Б.Л. Пастернак – Р.Н. Ломоносовой, 11 июня 1935 г.)* * *В состав советской делегации на Конгресс в защиту культуры, открывшийся вчера в Париже, намечены были также Бабель и Пастернак. В Москве отнеслись к участию в Конгрессе этих двух писателей без большого энтузиазма. В результате Бабель и Пастернак должны были остаться в Москве.
Но фактический руководитель советской делегации М. Кольцов, узнав об этом лишь здесь, в Париже, поднял тревогу. Завязались переговоры с Москвой, причем Кольцов настаивал, чтобы и Бабель, и Пастернак немедленно выехали. Настояния Кольцова увенчались успехом. Кольцов требовал, чтобы оба вылетели на аэроплане и прибыли в Париж к началу работы Конгресса. Но Пастернак болен и лететь не может. Бабель же не пожелал отпустить Пастернака одного.