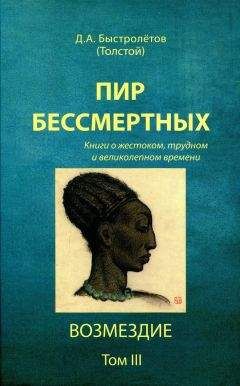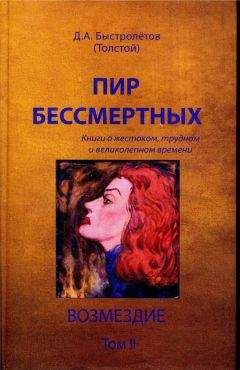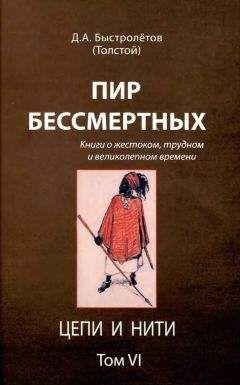Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 1
Был и еще один психологический момент, определивший такое неравное соотношение сил, — разница в отношении к заключению. Для урок лагерь был свой естественный, если так можно выразиться, родной дом, где они чувствовали себя хозяевами, имеющими право распоряжаться. За забор, на свободу, они выходили редко и на короткое время — в приятный отпуск для развлечения или в деловую командировку, чтоб пограбить. В лагерь возвращались, как к себе домой. Когда приходил этап, их всегда ожидала у ворот шумная и радостная встреча с братухами. А контрики и бытовики рассматривали свое пребывание в лагере как временное и случайное, в загоне из колючей проволоки чувствовали себя гостями и жили только воспоминаниями о воле. Между бытовиками и тогдашними контриками была только одна разница — первые понимали, что заслужили законное наказание и поэтому внутренне воспринимали его спокойно, тогда как вторые терзались непониманием причин своего несчастья и его кричащей несправедливостью: для них это было политическое и нравственное крушение, уничтожение в них того внутреннего мира, который у бытовиков оставался нетронутым.
И, наконец, последнее: урки на воле родственных связей не имеют, их марухи живут в лагерях, и, получив на воле очередной срок, преступник-рецидивист не без радостного волнения возвращается к своим близким. Семьи бытовиков после ареста провинившегося члена остаются в целости и ждут его возвращения. Семьи же контриков в те годы истреблялись с корнем — жены и родители выгонялись с работы, выселялись из квартир, детям закрывалась дорога к получению образования. Для не арестованной жены оставался один путь к спасению — замужество за кого угодно, лишь бы поскорее изменить адрес и фамилию. Но жена осужденного врага народа зачастую получала без суда, по решению «тройки» НКВД, литерную статью (вне уголовного кодекса) — КР (контрреволюционерка) — срок пять лет, или ЧС (член семьи врага народа) — срок десять лет. В таких случаях оказавшиеся бездомными маленькие дети заключались в особые детские колонии для беспризорных, а с двенадцати лет — в общие лагеря, где помещались, из-за отсутствия в их приговоре 58-й статьи (контрреволюция), в наиболее опасные в моральном отношении бараки: мальчики — к ворам и убийцам, девочки — к проституткам и воровкам. Даже в тогдашнем Норильском лагере, в еще неосвоенном Заполярье, томились дети от двенадцати лет. Я никогда не забуду одной сцены.
Зимой, в полярную вьюжную ночь, после приема, когда больные и врачи разошлись по баракам и жизнь в лагере замерла, я закончил уборку и составление списков больных для нарядчика и побрел меж темных бараков в контору, окна которой ярко светились сквозь кружившийся снег. По дороге наткнулся на странную фигуру, похожую на невысокий столбик. Я взял ее за плечо, вывел в полосу света. Вгляделся: голый мальчик, облепленный снегом. Он не дрожал: замерзание уже прошло эту фазу.
— Ты что здесь делаешь? Заблудился? Из какого барака?
Мальчик с трудом разжал рот и еле слышно сказал, как во сне:
— Дяденька, я нарочно замерзаю… Бросьте… меня… Я хочу… умереть…
Я перекинул его через плечо и поднес к бараку, открыл дверь и сдал дневальному. Мальчик был из Киева, сын крупного партийного работника, арестованного вместе с женой. Отца, надо полагать, расстреляли, мать потерялась в лагерях, мальчик жил один, без посылок, без писем.
Таковы были контрики-дети. Теперь о контриках-отцах. Помню еще одну норильскую сцену.
Это произошло в начале зимы тридцать девятого года, вскоре после моего прибытия в Норильск. В синем сумраке утра бригады стояли черным мощным потоком, пока застывшим в полной неподвижности, но уже готовым прорваться и ринуться вперед. Площадка у ворот и головная часть колонны освещалась сильными электролампами. До начала развода осталась минута-две. Неожиданно заключенный из числа прибывшего накануне из Дудинки пополнения сорвал с лица маску и крикнул:
— Эй, ребята, есть здесь кто из Ростова?
Впереди меня кто-то ответил:
— Есть.
И назвал себя.
— Ваня! Брат! Милый…
— Приготовиться! — скомандовал начальник лагеря, и бригадиры повторили это слово — оно прошло по рядам и замерло вдали.
— Ваня, нас отправляют куда-то дальше! Может, не увидимся! Слушай! Твоя жена Валя повесилась, Вовку и Танюшку забрали в колонию. Ваши переехали из Москвы к нам после твоего ареста! Они…
— Марш! Первая, вперед!
Бригада тронулась бегом. На снегу образовалось пустое место, сверху ярко освещенное прожекторными лампами. Из первого ряда, шатаясь, вышла черная фигура. Взмахнула руками… И повалилась в снег.
— Вторая, вперед!
— Третья, вперед!
— Четвертая!
Неудержимый поток прорвался: черная лавина зашевелилась в темноте. В круг яркого света маршевым шагом врывалась одна бригада, десятая, двадцатая, бесконечные ряды вбегали, прыгали через лежащего и скрывались в воротах. Вбегали… Прыгали… Скрывались… Вбегали… Прыгали… Скрывались…
Таковы были взрослые контрики лагерного Норильска тех лет.
Упавший выжил. У него был глубокий спастический обморок и шок. Он стал инвалидом и теперь попал в наш счастливый этап. Фамилию его сейчас не могу вспомнить. Это был кандидат исторических наук, полковник, начальник большой военной библиотеки. Человек приятный, умный. С ним во время этапа я сдружился, наши споры оказали мне помощь в становлении моего понимания событий.
— А ты что здесь делаешь, Шимп? — закричал я с нар, когда в толпе видных урок в барак ввалился Вова-Шимпанзе.
— Все, доктор! Еду начинать новую жизнь! Здесь уже перековался в доску! — ответил Шимп, моргая красными веками без ресниц. — Сейчас ты сам увидишь нашу медицину! Учись, тебе полезно.
По профессии Шимп был бандитом и многократным убийцей, но помимо деловой стороны, так сказать, в частной жизни — добродушным существом с низким лбом, длинными могучими руками и короткими кривыми ножками, словом, человекоподобной обезьяной, говорившей на блатном жаргоне и отнюдь не лишенной сообразительности и даже некоторых человекоподобных чувств. Шимп был безнадежно влюблен в первую красавицу Норильлага тех лет Машку-Бомбу. Будучи бесконвойником и всегда имея деньги, он заказал ее акварельный портрет, покупал ей сласти, пудру, краску для губ и щек и брал у меня уроки хорошего тона. В частности, он зазубрил из какой-то книжки красивую речь — признание в любви. Но ничего не помогало. Машка водила щедрого поклонника за нос, и пока что всю эту зиму Шимп утешался безотказными услугами другой Машки — толстой, чисто вымытой свиньи с ярко-розовыми ляжками и пышным красным бантом, сделанным из украденного в вольном клубе боевого плаката. На свинарнике Машка до того привыкла к уркам, что при звуках хриплого мата уже сама поворачивалась к ним задом.