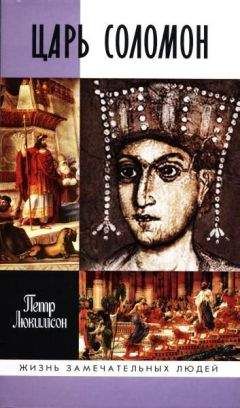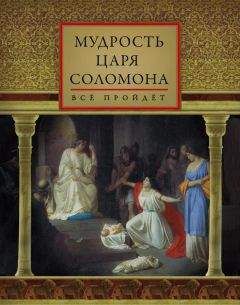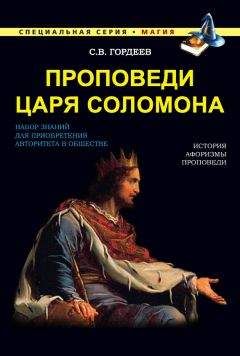Люкимсон Ефимович - Царь Соломон
В пользу этой версии говорит само построение «Екклесиаста», текст которого порой напоминает даже не диалог, а «полилог» — беседу со множеством участников, выдвигающих противоположные и противоречивые точки зрения. Тибергер напоминает, что подобные диалоги были характерны для литературы Древнего мира, и прежде всего для египетской и вавилонской (например, «Диалог между уставшим от жизни и его душой», датируемый около 1580 года до н. э.). Проводит он также и любопытную и весьма обоснованную параллель между текстами «Екклесиаста» и древнеегипетским «Плачем Хекхепера» (около 1900 года до н. э.).
Таким образом, если следовать Тибергеру, не исключено, что текст «Екклесиаста» и в самом деле начал складываться в эпоху Соломона, но затем многократно дописывался, редактировался и приобрел знакомую нам форму никак не ранее 500 года до н. э., будучи в любом случае продуктом коллективного творчества.
Что ж, повторим: речь вновь идет о весьма изящной, но все же отнюдь не бесспорной гипотезе. В IV или III веке до н. э. поэты и философы обладали уже достаточным самолюбием, чтобы отдавать авторство своих произведений кому-либо другому, пусть даже и царю Соломону. Да и при всей внутренней противоречивости книги единство ее не только стиля, но и самого строя поэтического мышления наводит на мысль, что она все же написана одним автором.
Поэтому попробуем поставить вопрос по-другому: «А могла ли эта книга быть написана царем Соломоном?»
И ответ будет однозначен: «Да, такая вероятность и в самом деле существует».
Каким бы модернистским ни казался ее язык, он все равно был понятен современникам Соломона — за исключением, пожалуй, некоторых явных неологизмов, которые, кстати, нигде, кроме «Коэлета», больше и не используются. В то же время на два заимствования из фарси в «Коэлете», как показал американский семитолог Митчел Дахуд, содержится множество слов из финикийского языка, да и морфология и синтаксис этого языка явно оказали свое влияние на текст «Коэлета». Но ведь наиболее интенсивное сообщение между Израильским царством и Финикией, а значит, и взаимовлияние еврейской и финикийской культур приходится именно на эпоху царя Соломона!
Наконец, еще одна важная особенность этой книги: ее универсализм.
Текст «Коэлета», в отличие от других книг Танаха, обращен ко всему человечеству а не только к еврейскому народу; Бог в нем — это Творец мира, Владыка всего сущего и Господь всех народов, так что призыв трепетать перед Ним и следовать Его заповедям также обращен ко всем людям. Но подобными космополитическими настроениями в древней еврейской истории отличался только один человек — все тот же царь Соломон!
Таким образом, ни однозначно опровергнуть, ни однозначно доказать, что именно Соломон является автором «Екклесиаста», невозможно. Нам остается лишь констатировать тот факт, что имя Соломона навсегда останется связанным с этим «одним из самых замечательных произведений мировой литературы»[153], и, исходя из этого факта, познакомить читателя с некоторыми из его основных идей и мотивов.
***Подробный литературный и философский анализ «Екклесиаста» не входит в задачу этой книги, да и при всем желании автор вряд ли осмелился бы соперничать на этом поприще с целым рядом выдающихся раввинов, философов и литературоведов, посвятивших такому анализу целые тома.
Но первое, что хочется здесь отметить: завораживающая сила этой книги заключается именно в том, что она представляет собой выдающееся художественное произведение. При этом, пожалуй, трудно сказать, идет ли речь о ритмической прозе или о философской поэме, написанной белым стихом.
Автор позволит себе высказать крамольную со всех существующих точек зрения на «Екклесиаста» мысль, что подлинное величие этой книги заключается отнюдь не в том, что она содержит в себе глубокую философию. Если отставить в сторону доступную немногим каббалистическую трактовку ее текста, то становится ясно, что «Коэлет» содержит в себе не так уж много «мудрых мыслей». Вся сила этого произведения для непосвященного читателя (как и в случае с «Песнью песней») как раз заключается в том эмоциональном воздействии, которое она оказывает при прочтении. Она, эта сила — в исповедальной искренности и магии языка книги; в его афористичности; в виртуозном владении автором всеми средствами поэтического выражения. Вспомним хотя бы известные почти каждому образованному человеку слова:
Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
Время рождаться, и время умирать;
Время насаждать, и время вырывать посаженное;
Время убивать, и время врачевать;
Время разрушать, и время строить;
Время плакать, и время смеяться;
Время сетовать, и время плясать;
Время разбрасывать камни, и время собирать камни;
Время обнимать, и время уклоняться от объятий;
Время искать, и время терять;
Время сберегать, и время бросать;
Время раздирать, и время сшивать;
Время молчать, и время говорить;
Время любить, и время ненавидеть;
Время войне, и время миру.
Именно в художественной силе, а не в философской глубине кроется разгадка того, что «Екклесиаст» потрясает почти каждого, кто его читает. Каждый новый читатель этой книги невольно начинает примерять на себя жизненный опыт его автора и спорить или соглашаться с ним. Не случайно на протяжении всей человеческой истории было так много попыток художественного перевода «Екклесиаста» и в прозе, и в стихах, но ни один из них, как и в случае с «Песнью песней», нельзя признать удачным.
Первая глава книги отражает ту безысходность, ощущение бесцельности существования, а также смятение и разочарование от тщетности усилий создать что-то поистине новое и оставить по себе память в этом мире, которую испытывает автор:
«Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки… Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: 'смотри, вот, это новое', но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после» (Екк. 1:2—11).
Это депрессивное настроение нарастает по мере движения текста. В какой-то момент «Проповедующий в собрании», кажется, начинает обвинять Бога в том, что Он подарил людям жизнь — ведь зачем она человеку, если в ней нет никакого смысла: «…тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа! Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать» (Екк. 1:13–15).