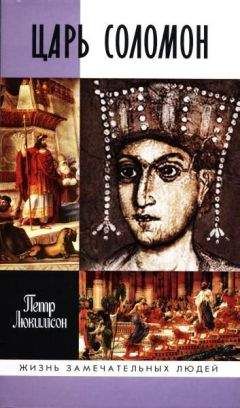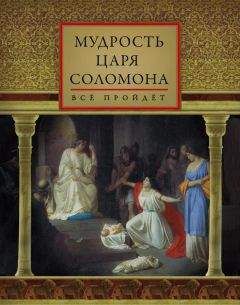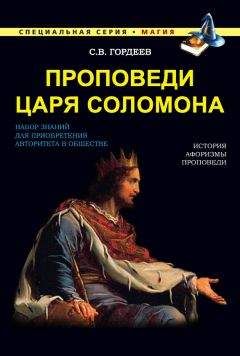Люкимсон Ефимович - Царь Соломон
Впрочем, и эта версия звучит не очень убедительно. Продолжая игру в этимологию, можно вспомнить, что слово kehe означает на иврите «темный», и, стало быть, kohelet можно истолковать и как «темный», «мрачный», «пессимистичный», что вполне соответствует общему настроению этого произведения. Но все это опять-таки будет не более чем очередной спекуляцией. Таким образом, вероятнее всего, значение названия этой книги так и останется неразрешимой загадкой.
Другая загадка связана с вопросом о том, кто же на самом деле является автором этой книги и когда она была написана. Еще в 1644 году Гуго Гроций опубликовал исследование языка «Коэлета» и пришел к выводу, что эта книга содержит многие слова, встречающиеся лишь в книгах пророка Даниила и Ездры, то есть в самых поздних книгах Библии. А значит, считал Гроций, она не могла быть написана царем Соломоном или даже в эпоху царя Соломона. Другие гебраисты также пришли к выводу, что «Коэлет» написан на необычайно элегантном, «модернистском» иврите, который сформировался лишь к III веку до н. э., то есть вновь наотрез отказали Соломону в праве на авторство «Екклесиаста».
При этом часть исследователей сходилась во мнении, что книга написана в период Вавилонского пленения, на территории Персидской империи, а часть (в том числе и такие видные библеисты, как Генрих Грец и Марк Леви) утверждала, что она была создана под влиянием древнегреческой поэзии и философии. Но если в качестве доказательства первой из этих версий приводились хотя бы обнаруженные в оригинальном тексте «Екклесиаста» заимствованные из фарси два слова — «пардес» («сад») и «питгам» («поговорка», «крылатое выражение»), то для обоснования второй не было и этого. В тексте «Екклесиаста» нет ни одного заимствования из древнегреческого языка. В нем есть лишь перекличка некоторых идей с греческой философией, но это, как известно, еще ничего не значит. Да и перекличка эта, как показал в свое время Сергей Сергеевич Аверинцев, весьма условна, и правильнее, скорее, говорить об «Екклесиасте» как об антитезе классической греческой философии.
«Автор, собственно, жалуется не на что иное, как на ту самую стабильность возвращавшегося к себе космоса, которая была для греческих поэтов и греческих философов источником успокоения, утешения, подчас даже восторга и экстаза, — подчеркивает Аверинцев. — Природные циклы не радуют „Кохэлета“ своей регулярностью, но утомляют своей косностью. „Вечное возвращение“, которое казалось Пифагору возвышенной тайной бытия, здесь оценено как пустая бессмыслица. Поэтому скепсис „Книги Проповедующего в собрании“ есть именно иудейский, а отнюдь не эллинский скепсис; автор книги мучительно сомневается, а значит, остро нуждается не в мировой гармонии, но в мировом смысле. Его тоска — как бы подтверждение идеи от противного той идеи поступательного целесообразного движения, которая так важна и характерна для древнееврейской литературы в целом, постольку он остается верным ее духу»[149].
«Несмотря на разногласия по вопросу о датировке книги „Кохэлет“… большинство современных исследователей относят ее к середине I тысячелетия до н. э., то есть к Осевому времени, одним из главных признаков и достижений которого был переход от мифологического мышления, где доминирует абсолютная истина, к научно-логическому мышлению, признавшему также значимость истины относительной»[150], — пишет Вейнберг, подводя итоги научной дискуссии вокруг датировки «Екклесиаста».
Но дело ведь заключается в том, что книга «Екклесиаст» не просто в первых строках указывает на Соломона как на ее автора, но и многие другие ее стихи, написанные от первого лица, это авторство подтверждают. В самом деле, только Соломон из всех царей израильских мог сказать про себя: «…собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребыла со мною» (Екк. 2:8–9).
С. С. Аверинцев предложил изящную гипотезу, позволяющую вроде бы объяснить этот парадокс. «Обычай приписывать сборники сентенций мудрым царям былых времен искони существовал в древнеегипетской литературе и оттуда перекочевал в древнееврейскую (о значении имени Соломона как собирательного псевдонима для всего сословия хахамов сказано выше, в связи с „Книгой притчей Соломоновых“). Но здесь перед нами совсем не то, что в „Книге притчей Соломоновых“ или „Песни песней“. Автор не просто надписывает над книгой своей имя Соломона, но по-настоящему „входит в образ“ великолепнейшего из царей Израиля, вводя неоднозначное сопряжение двух планов: исповедально-личного и легендарно-исторического. Традиционный образ Соломона сознательно взят как обобщающая парадигма для интимного жизненного опыта. Эта сознательность приема есть черта столь же необычная на общем фоне древневосточной литературы, сколь и подходящая к облику скептического мудреца, написавшего в IV или III веке до н. э. „Книгу Проповедующего в собрании“…»[151]
В том же ключе, но с некоторыми нюансами объяснял происхождение «Екклесиаста» и Фридрих Тибергер. Согласно его гипотезе, эта книга связана с Соломоном именно потому, что она является коллективным произведением учеников и преподавателей некой созданной именно Соломоном в Иерусалиме «школы мудрости». «Школы мудрости, — напоминает Тибергер, — были распространены на всем Древнем Востоке. К 3000 году подобные учреждения существовали при дворе фараона; в будущем, после обучения слушатели становились государственными чиновниками. В этих школах приобретали навыки в составлении деловых бумаг, обучали истории и праву. О таких школах говорится в „Истории“ Иосифа Флавия. Известно, что они существовали в Вавилоне: одна, известная как Дом закона, была при храме Бога писцов в Езеде»[152].
По версии Тибергера, сообщество преподавателей и учеников этой школы и называлось «собранием», а Соломон как ее первый руководитель (а возможно, и последующие главы школы) именовался «коэлетом» — «главой ассамблеи», «проповедником собрания». Соломон, таким образом, по этой версии, заложил основу еврейской риторики, принципы ведения дискуссии, когда глава школы выдвигает какой-то тезис, обосновывает его, а остальные должны этот тезис опровергнуть, выдвинув контрдоводы. На этом основании он действительно может считаться если не автором, то вдохновителем «Екклесиаста».
В пользу этой версии говорит само построение «Екклесиаста», текст которого порой напоминает даже не диалог, а «полилог» — беседу со множеством участников, выдвигающих противоположные и противоречивые точки зрения. Тибергер напоминает, что подобные диалоги были характерны для литературы Древнего мира, и прежде всего для египетской и вавилонской (например, «Диалог между уставшим от жизни и его душой», датируемый около 1580 года до н. э.). Проводит он также и любопытную и весьма обоснованную параллель между текстами «Екклесиаста» и древнеегипетским «Плачем Хекхепера» (около 1900 года до н. э.).