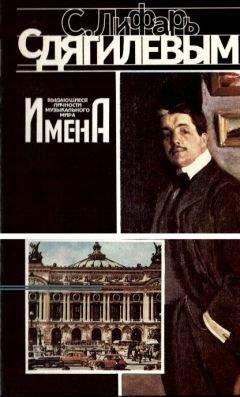Дягилев. С Дягилевым - Лифарь Сергей Михайлович
По поводу этой статьи А. Левинсона необходимо сделать два замечания. Первое: Левинсон безусловно прав, говоря, что Мясин «успел испытать» влияние Нижинской, но критик не объясняет, каким образом Мясин, не работавший вместе с Б. Нижинской, мог испытать это влияние, и не договаривает того, что и Нижинская в предыдущие годы своей деятельности испытала влияние Мясина, что Мясин первого периода испытывал влияние Фокина и Нижинского и проч. и проч., между тем договорить это было необходимо, а договорив и объяснив это явление постоянных перекрещивающихся влияний, пришлось бы смягчить и фразу о том, что «дважды за три года изменилась доктрина и практика русских балетов». Эти постоянные взаимные влияния хореоавторов Русского балета объясняются не только (и, может быть, даже не столько) тем, что ранее созданные балеты остаются в репертуаре, но и в особенности тем, что это влияние происходило через главного руководителя всех сторон Русского балета – самого Дягилева: не столько Нижинская влияла на Мясина, а Мясин на Нижинскую, сколько Дягилев влиял и на Мясина и на Нижинскую. Это влияние Дягилева, обеспечивавшее какую-то преемственность направления при самом большом разнообразии различных тенденций и доктрин и при постоянной их эволюции было настолько значительно и образующе, что безусловно права Ю. Сазонова, рассматривавшая хореографию разных балетмейстеров Русского балета, как «хореографию» Дягилева. Сазонова писала в «Revue musicalе», что Дягилев «не основал школы, его дело умерло вместе с ним, его сотрудники рассеялись и работают изолированно. Но печать Дягилева осталась выгравированной в них, и хотя они выполняют свое личное дело, они тем не менее распространяют идею новой хореографии, концепцию танца, которую все же можно было бы расширенно назвать школой Дягилева».
Второй замечание: в то время, как Левинсон писал свою статью – в июле 1925 года – разгар парижского сезона в «Gaité Lyrique», балетмейстерский кризис уже был разрешен, и новый балетмейстер, Георгий Баланчин, уже работал над новыми балетами.
Обе новинки сезона «Зефир и Флора» Дукельского – Брака – Мясина и «Les Matelots» Орика – Прюны – Мясина имели большой успех в Париже (как и в лондонском «Колизеуме»), но вызвали разную прессу.
Парижская печать единодушно хвалила исполнителей, но о самих балетах писала скорее с осуждением и, сравнивая их с первыми балетами, составившими славу Русского балета, отдавала им решительное предпочтение.
К музыкальным достоинствам новых балетов печать относилась очень различно, но все в один голос говорили о нетанцевальности их, заставлявшей балетмейстеров выходить из трудного положения путем прибегания к фокусам, к трюкам, которые еще больше определяли направление Русского балета к clownerie [245], к цирку, мюзик-холлу и culture physique [246]. В этой мюзик-холльности критика видела веяние новой эпохи; о Дягилеве писали, что он «бежит перед эпохой».
В Лондоне состоялась премьера первого балета нового хореоавтора – Г. М. Баланчина – «Барабау» – и прошла с большим успехом. Баланчин, окончивший императорскую театральную школу в Петербурге, был последователем московского фанатика К. Голейзовского, балетмейстера, культивировавшего акробатизм на академической основе. Акробатизм и комизм были главными пружинами и Баланчина, проходившего теперь другую школу – Фокина, Мясина и Нижинской, ибо не только их балеты оставались в репертуаре Русского балета, но Мясин и Нижинская продолжали от времени до времени гастролировать в Русском балете, который Дягилев не решался отдать всецело молодому балетмейстеру (в 1926 году Нижинская поставила один из удачнейших в пластическом отношении своих балетов – «Ромео и Джульетту» и хореографическую поэму «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, в 1927 году Мясин – не советской формации Баланчин, а дореволюционный Мясин – был привлечен к «Стальному скоку», и в 1928 году тот же Мясин создавал «Оду» Набокова [247]). Баланчин, ставя свои балеты, продолжал учиться на балетах своих предшественников, проникался их духом и сочетал свой советизм с главными течениями дягилевского балета – Баланчин прошел большой путь от первых комических балетов – очаровательного по своему непосредственному комизму «Барабау» (1925), «Пасторали», английско-фольклорного «Триумфа Нептуна» и случайного «Jack in the Box» [248]с наивным преломлением «негритянства» (1926) до самого современного и самого «баланчинского» балета «Кошка» (1927) с его настоящим вдохновением, до значительного «Аполлона» и «Нищих богов» (1928), до трагической пантомимы – «Блудного сына» и безличного «Бала» (1929), который мог быть подписан любым именем (Баланчину же принадлежит новая версия «Песни соловья» – 1927).
Баланчин был изобретателен на всевозможного рода трюки и пародии, но если Нижинская и Мясин «прикрепляли» балет к земле и лишали его элевации, то в цирковом и стилизованно-реалистическом творчестве Баланчина почти уже не оставалось места академическому танцу. Баланчин, конечно, обогатил Русский балет Дягилева и академический танец новыми приемами, но еще больше танцевально недоосуществленными возможностями и оставил, в конечном счете, большую неудовлетворенность в Дягилеве. Нужно сказать, что задача Баланчина была гораздо труднее задач его предшественников: в то время как с Фокиным, Мясиным и Нижинской дружно работали и сам Дягилев и его художественное окружение – художники, музыканты, писатели (такие, как Ж. Кокто), и этой дружной совместной работой достигалась изумительная художественная цельность единого театрального произведения, Баланчин работает больше за свой страх и риск, – чем дальше, тем все менее и менее ему помогает Дягилев, и ему приходится угадывать художественную волю директора Русского балета. Нет настоящего сотрудничества и с художниками и с музыкантами: имена их мелькают, не задерживаясь, на последних страницах Русского балета – Орик, Риети, Сати, Пуленк, Мийо, Ламберт, Бернерс, Coгe, Набоков, Утрилло, Прюна, Дерен, Миро, Эрнст, Якулов, Габо, Певзнер, Челищев, Шарбонье, Бошан, Хуан Гри, Руо, Кирико – они получают исполняемые ими заказы и мало сливаются с жизнью Русского балета. Большее значение приобретают теперь советские драматические режиссеры – Таиров и Мейерхольд, – с ними больше всех советуется Дягилев, их влияние сказывается и на балетах Баланчина. Прежнего пламени, однако, в Дягилеве уже нет, и художник-балетмейстер уступает место добросовестному директору, который с настоящим рвением и подлинным интересом относится к отдельным постановкам отдельных балетов. К таким балетам принадлежали: «Ромео и Джульетта» (1926) Ламберта – Миро – Эрнста – Нижинской, «Триумф Нептуна» (1926) Бернерса – Шервашидзе – Баланчина, «Le Pas d’Acier [249]» (1927) Прокофьева – Якулова – Мясина, «La Chatte» [250] (1927) Coгe – Габо – Певзнера – Баланчина, «Аполлон Мусагет» (1928) Стравинского – Бошана – Баланчина, «Le Fils Prodigue» [251] (1929) Прокофьева – Руо – Баланчина и наконец последний балет нового хореоавтора – моя версия «Лисицы» Стравинского – Ларионова (1929). За моей работой, первой творческой работой, Сергей Павлович следил с самым живым интересом, постоянно присутствовал на репетициях, одобрял многие мои выдумки, но, я должен сказать, советов мне не давал, творчески не участвовал в создании балета…
Дягилев перестает быть Дягилевым, вечно кипящим творцом и создателем культурных ценностей? Нет, Дягилев остается Дягилевым, и даже самое ослабление его интереса к Русскому балету только еще более подтверждает неизменность дягилевской натуры, основное свойство которой неудовлетворенность вчерашним днем, тем, что уже создано, неудовлетворенность повторениями и стремление к новому строительству. Это новое громадное культурное дело, наконец, появилось в 1927 году, и на первых порах казалось, что оно вступило в борьбу со старым делом, с Русским балетом, что оно вытесняло его. Так оно и было в 1927–1929 годах, когда книжная полоса – новое, большое, страстное увлечение Дягилева – чередовалась с балетной полосой. Но чем больше разрасталось книжное дело, чем больше зажигало оно Дягилева и принимало грандиозные дягилевские масштабы, тем более ясно становилось, что Русский балет ждет не смерть, а возрождение.