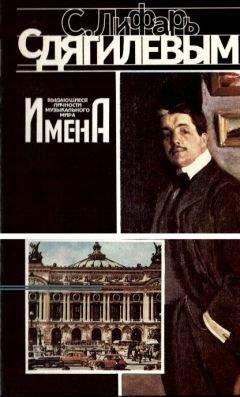Дягилев. С Дягилевым - Лифарь Сергей Михайлович
Несмотря на то что большая часть статьи Дягилева посвящена «хореографии», обоснованию и защите акробатизма и конструктивизма, оценка его танцевальной стороны балетов и его прогноз будущей «хореографии» гораздо менее ясны и определенны, – до конца дней своих Дягилев остается более компетентным в живописи и в музыке. «Новая оценка моих теперешних спектаклей, – пишет Дягилев, – это ряд восклицаний: спектакль „странный“, „экстравагантный“, „отталкивающий“, а новый термин для теперешней хореографии: „атлетизм“ или „акробатизм“. Да ведь спектакль и должен быть прежде всего странным. Я воображаю удивление людей, увидевших первую электрическую лампу или услышавших первый телефонный звук. Таким „экстравагантным“ первым электрическим звонком в лондонскую публику был когда-то мой невинный спектакль половецких плясок из „Князя Игоря“ (первоначально Дягилев продиктовал: «Мой дедушка так ненавидел первые поезда, что приказал везти его в карете по полотну железнодорожного пути и сгонять эти чудовищные поезда с дороги. Когда его внук хотел сбить с дороги традиционный классический балет, он выступил с очень невинным, таким, который называется „Половецкие танцы“ из „Игоря“»). Элегантный зал не мог тогда вынести такой акробатический дикости и бежал во все стороны. Это было в „Covent Garden“ в 1911 году. В том же театре в 1929 году, по мнению критики, мои танцоры превратились в атлетов, а постановки мои – в абсолютный акробатизм. Здесь нет места, чтобы войти в подробные обсуждения этого важного вопроса. Но вкратце я должен сказать следующее. Классический танец не есть и никогда не был Русским балетом, классика родилась во Франции, развилась в Италии и лишь сохранилась в России. Рядом с классическим танцем всегда, даже в самый расцвет классицизма, существовал характерный национальный танец, который и дал развитие Русскому балету. В тех редких странах, как например, в Испании, где национальный танец получил громадное развитие, ясна роль характерной формы танца. Я не знаю ни одного классического движенья, которое бы родилось в русской пляске. Почему же нам идти от менуэтов французского двора, а не от праздника русской деревни? То, что вам кажется акробатизмом, это есть дилетантская терминология нашего национального танца. Впрочем, ошибка здесь гораздо глубже: акробатику в танец ввела как раз классическая итальянская школа. Самые грубые акробатические трюки это – двойные туры в воздухе, классические пируэты en dehors [242], отвратительные женские тридцать два фуэте. Вот где нужно нападать на акробатику, а вовсе не в [характерно] пластических исканиях Баланчина. В „Блудном сыне“ гораздо менее акробатики, чем в последнем классическом Pas de Deux „Manage d’Aurore“».
Какие же могут быть сомнения в том, что в так называемый классический танец постоянно проникали элементы характерных танцев и акробатики? – Дягилев, конечно, прав в этом своем утверждении, но парадоксально его мнение о том, что в балетах Баланчина меньше акробатики, чем в «Спящей красавице» (к тому же она другого порядка и происхождения). Еще меньше защищает Дягилев «атлетизм», «акробатизм» и «экстравагантность» балетов третьего периода ссылкой на историю «характерных» и «классических» танцев: элементы акробатизма ни в какой мере не оправдывают принципиального акробатизма балетов. Это, впрочем, прекрасно понимает и сам Дягилев, – недаром он продиктовал следующую фразу (первую половину которой он зачеркнул): «Акробатика невыносима, когда она становится теорией, но в ней заложено много элементов „конструктивности“, через которую прошла вся современность». В угоду конструктивизму балетов Дягилев зачеркивает свою мысль о невыносимости принципиального акробатизма; самые колебания в признании и отрицании принципиального акробатизма характерны для последних лет Русского балета.
Отрицая акробатизм балетов Баланчина, Дягилев находит, что только после моей «Лисицы» «наконец можно действительно начать говорить об акробатическом балете». Но из того, что дальше говорит Дягилев, вытекает что акробатизм не является характерным для моего танцевального творчества, а только для «Лисицы»: «На обложке партитуры „Renard’a“ [243] Стравинский написал:,Renard“ должен исполняться шутами, акробатами или танцорами“. У Лифаря она исполняется и танцорами и акробатами, настоящими акробатами из цирка. В соединении цирковой пластики и танцевальных трюков и состоит здесь задача хореографа. Когда Стравинский заставляет в „Renard’e“ баса петь женским фальцетом, а сентиментальность Лисы выражается ударами ресторанных цимбал, то надо понять, что другой зрительной выразительности, чем та, которую нашел Лифарь для этого произведения, изобретать не надо». Следующая фраза говорит уже исчерпывающе о том, что мой акробатизм был связан только с частным случаем: «Это вовсе не принцип Лифаря, а просто в „Renard’e“ он не видел другой формы для хореографического изображения музыки Стравинского. Стравинский несомненно очень часто бывает акробатом звуков, как Пикассо акробатом линий». Если акробатизм «вовсе не принцип Лифаря» (что, конечно, совершенно справедливо), то можно ли в таком случае говорить, что с того момента, как я стал балетмейстером Русского балета – в последний год его существования, – «наконец можно действительно начать говорить об акробатическом балете»? И что остается в таком случае от дягилевской характеристики меня, кроме того, что во мне сильна «конструктивность» и «беспощадное опасение компромисса»? Сергей Павлович сразу поверил в мою «хореографию» и писал обо мне в своей статье: «Когда он пришел на свою первую репетицию, мне показалось, что всю свою жизнь он только и делал, что ставил. Он знал безошибочно то, что он хотел, и это чувствуется в его маленьком акробатическом балете…» Дягилев без колебаний доверял мне будущее Русского балета, но «хореографические линии грядущей эпохи балета», которую Дягилев предчувствовал, еще не вполне определились для него.
Возвращаюсь к 1924 году. Из Русского балета ушла Бронислава Нижинская – открылся новый балетмейстерский кризис. Возможно, что Русский балет совсем прекратился бы, если бы Дягилев не сделал два новых «открытия»: своего «третьего сына» в музыке – Дукельского и танцора – меня. Впоследствии Дягилев говорил мне, что в его намерении продолжать свое дело играло большую роль любопытство – ему хотелось посмотреть, что из меня выйдет. Дукельский в 1924 году писал музыку для балета «Зефир и Флора» – Сергей Павлович приходил в восторг от нее; 13 августа он писал мне: «Вчера приехал Дукельский и играл мне музыку „Зефира и Флоры“, которая мне очень нравится. Я сделал все замечания, он очень мило принимал все к сведению и будет продолжать в Монте-Карло под моим присмотром, чем я доволен. Для двадцати лет он чрезвычайно одарен и развит». Впрочем, увлечение Дукельским недолго продолжалось, и «Зефир и Флора» был не только его первым, но и последним балетом.
Временно балетмейстерский кризис разрешился тем, что Дягилев пригласил для постановки сперва «Зефира и Флоры» Дукельского, а потом и «Matelots» [244] Орика – Мясина, но это приглашение носило явно временный характер и по существу не разрешало самого трудного и самого больного вопроса Русского балета – почти постоянных «хореографических» кризисов. Об этом кризисе 1925 года очень выразительно писал А. Левинсон: «Сегодня после шестидневного сезона и двух показанных новинок („Зефира и Флоры“ и,Matelots“) труднее, чем когда-либо разгадать виды и определить политику этой власти. Дважды за три года изменилась доктрина и практика русских балетов. Схемы и конструкции г-жи Нижинской, вокруг которой был поднят в дни „Свадебки“ такой шум, выметены железной метлой. Возврат к хореографическим методам Мясина тоже, видимо, имеет значение временной передышки. Несмотря на успех „Матросов“ талантливого Орика, сотрудничество Дягилева с французской свитой И. Стравинского в области музыкального лубка идет к быстрому концу. Возможно, что почти все, составляющее ныне художественный груз русских балетов, будь это Мийо или Пуленк, будет в свою очередь выброшено за борт как постылый балласт… Как в „заколдованном месте“, она (труппа Русского балета. – С. Л.) вернулась к исходной точке: тому перепутью, на котором она давно уже бьется, ища выхода. От самого разрыва с Фокиным еще в 1912 году начался у С. Дягилева тот балетмейстерский кризис, который не разрешен и теперь. Мясин, привлеченный как „противоядие“ против приемов Нижинской, сам успел испытать ее влияние. Его постановка „Зефира и Флоры“ Дукельского, по-видимому, забракована после парижского просмотра. Сам же он возвращается к работе в английском мюзик-холле. Вопрос „что делать“ поставлен с прежней остротой. Как сочетать хореографическое движение с музыкальным? Как согласовать пластику танцора, стихию формальную, с задачами выразительности, с символикой жеста? Последовать ли открыто за традицией классического танца, или, загнав ее в подполье, прибегать к ней лишь прикровенно? Эти проблемы перерешаются из сезона в сезон: лишь красочная ярь, археологический узор и страстный пафос М. Фокина, по-видимому, остаются изжитыми для труппы навсегда… С музыкальным контекстом танцы Мясина то сочетаются тесно, то решительно расходятся. Так дуэт Зефира – Долина с нимфой лишь изредка равняется по ритму сопровождения. Это „раскрепощение“ танца от принуждений музыки подчеркивается тем, что подчас шаг, отбиваемый среди молчания оркестра, предшествует вступлению музыки или следует за ней…»