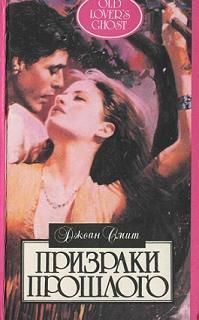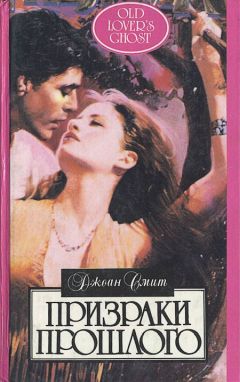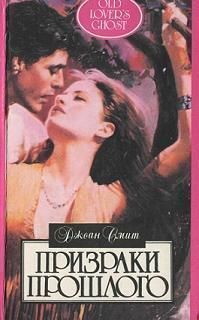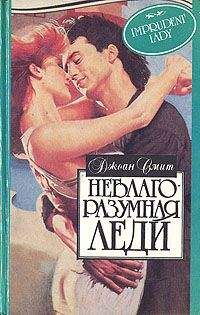Татьяна Сухотина-Толстая - Дневник
Теперь одна буду справляться, буду спотыкаться, падать, отчаиваться, течение, в котором я живу, будет уносить меня бог знает куда, но надо бога не забывать и он поможет мне.
Может быть, когда-нибудь опять нас жизнь сведет, и мы будем умнее и спокойнее относиться друг к другу. Я себе всегда представляю свою старость с ним и представляю себе его с белой бородой, совершенно ко мне равнодушным и безучастным, но почему-нибудь привязанным к тому же месту, как и я.
Жизнь еще длинная-длинная впереди.
Мне будет очень трудно. Я рада, что ему будет легче, чем мне, хотя если бы было и так же трудно, то все-таки следовало бы это сделать.
А может быть, и нет? Может быть, напрасно я так жестоко рву то, что само собой пришло бы в нормальное, спокойное состояние? В этом вопросе я не хочу обратиться к нему, чтобы он беспристрастно решил его. Да, теперь ни с какими вопросами обращаться к нему не придется, надо будет жить одной с богом. Только бы не забывать Его. А мне опять хочется кинуться к кому-нибудь и искать утешения и привязанности — к папа, к Вере. Не надо этого.
Я попрошу Машу не ходить в «Посредник». Она поймет, как это мне важно, потому что видит отчасти то, что во мне происходит. Я попрошу ее об этом для того, чтобы мне не было завидно и чтобы поменьше слышать о нем.
Итак, прощайте, мой дорогой друг, может быть на время.
Если бы я была лучше, может быть, нам не пришлось бы так круто разрывать и страдать от этого. Но я — плохая, слабая, и за все время я жалела о том, что могу только мешать вам жить. Простите меня. Обещайте мне одно — позвать меня, если я вам могу когда-нибудь быть нужной.
24 января 1894. Гриневка.Вчера ночью приехали с папа сюда. Соня одна с детьми, Илья за границей1. Последний день прошлого дневника тот, в который я решила все порвать с Женей. Я ночь не спала, плакала и несколько раз записывала в свой дневник карандашом то, что испытывала, чтобы дать ему прочесть, а то я знала, что не буду в состоянии ничего ему сказать. Потушила свечу в 6 часов, когда уже начало рассветать, и заснула на два часа. Потом послала ему записку, чтобы он не уходил, а ждал бы меня. Он должен был утром пойти на почту, а потом прийти мне помочь с перспективой. Проснулась с болью в сердце: вся грудь болела, глаза горели и слабость была страшная. Я чувствовала, что каждую минуту могла плакать. Оделась, никого из своих не видала и пошла в «Посредник». Он открыл мне дверь и испуганно спросил: «Что такое? Что?» Я прошла в Пошину комнату и, делая большие усилия, чтобы не разреветься, сказала ему, что пришла сказать, чтобы он не приходил и что я больше не приду в «Посредник» и что мы оба давно знаем, что это нужно. Но тут уж я больше говорить не могла и стала реветь. Он очень переменился в лице, кажется, у него тоже слезы были на глазах, но мне было так стыдно, что он меня видит в таком состоянии, что я не смела смотреть на него. Он мне только сказал, что если разрыв был нужен, то это не так следовало сделать, но что если я нахожу это нужным, то так и будет. Я сказала, что если он что-нибудь подумает новое, то пусть скажет, и ушла к Вере. Все ей рассказала. Она не одобрила то, что я сделала. Сказала, что мы прежде поступали не так, а что этот разрыв ни к чему не поведет. Бранила меня, что я раньше к ней не пришла. Но я это сделала нарочно, чтобы она этому не помешала: я боялась, что мне кто-нибудь помешает или я сама раздумаю это сделать, и потому так спешила это сделать.
От Веры я пошла в больницу за Москву-реку проведать Левина. Каждую минуту мне заволакивало глаза и мне хотелось плакать, так мне жалко было себя и его.
Я чувствовала, что этим ничего не могло прекратиться или измениться, но я чувствовала, что радости от нашего общения больше не будет, и было бесконечно грустно и больно.
Я себя упрекала в том, что я столько сил и энергии трачу на какое-то искусственное, ненужное горе и заставляю его делать то же самое, но это не помогало; оно было тут, огромное, безнадежное, захватившее всю мою душу и все мысли.
По дороге встретила трое похорон. В больнице видела больных, детей, потом прошла полем, рекой. У прорубей вороны прыгали и каркали, деревенские лохматые лошадки бежали запряженные в розвальни, все это меня умиротворило и успокоило. Особенно вид похорон и мысль о смерти. Улеглось возмущение и отчаяние, и осталась тихая, умиленная грусть. Пришла домой и рассказала обо всем Маше. Показала ей свои письма к Жене, про него рассказала, но не показала ни его письма, ни дневников, не имея на то права. Я рада, что Маша знает, хотя она не поняла этого так, как следует. Она примерила это на свой аршин, и мне это было неприятно, хотя она очень была ласкова и осторожна. Это тоже потому хорошо, что избавило от ревности к ней.
Днем поехала в Школу. В конке несколько раз должна была отвертываться к окну, потому что незаметно для себя слезы начинали ползти по щекам. В Школе хорошо рисовала и много разговаривала с товарищами. Как хорошо и свободно относиться ко всему, когда ничем не дорожишь внешним — ни мнением людей, ни их привязанностью, ни тщеславием. И это я чувствую все это время: я готова всем уступать, выслушивать все обидное, сказать правду, не боясь за это пострадать и т. п. Но это не дорого, потому что это происходит оттого, что все отвлечено привязанностью к человеку, а не к богу.
Придя из Школы, я зашла к Маше: она с папа проверяла Amiel'a 2. Она мне сказала, что приходил Женя и принес «Тулон» 3, что она это положила ко мне на стол. Я знала, что там письмо. Так и вышло. Письма не буду выписывать. Оно у меня в Москве. Он пишет, что не понимает, почему наши отношения мне вредны, и, не понимая этого, не понимает, почему нужен был такой резкий разрыв. Говорит, что от него ничего не изменится, наша привязанность не прекратится, а только ляжет тяжесть на душу каждого и нам придется вести себя как недобрым — бояться встретиться, избегать напоминания друг о друге. Он пишет, что никогда не думал, что наши отношения целиком нехороши, и что он думает, что в них, напротив, было много хорошего.
Прочтя это письмо, я ничего не почувствовала, кроме радости, что разрыва между нами не будет. Да и радости было не много. Не знаю почему, я чувствовала себя одеревенелой, как будто все было все равно.
Кроме того, мне показалось, что письмо не совсем правдиво. Он себя бессознательно, из страха потерять меня, обманывает. Он пишет, что он открыто, сам перед собой называет то, что между нами, — дружбой. Не знаю, может быть. Но почему же тогда он не спит полночи из-за того, что я в своих дурацких сочинениях писала, как «она» с «ним» поцеловалась, и потом сказала ему, что эта повесть очень автобиографична. Он пишет, что ему жалко, что я себя унижаю и т. д., и потом пишет, что, слава богу, я ему развязала руки тем, что сказала, что этого не было. В другом месте он пишет, что невыносимо и грешно жить так, как он: ничего обо мне не знать, тревожиться, волноваться и бояться за меня. Может ли это быть дружба? Я себя постоянно спрашиваю про себя и проверяю себя. Я спрашиваю: вышла ли бы я за него замуж? — и без колебания и сомнения отвечаю: никогда, ни за что, ни к чему. Но желала бы всю жизнь прожить вместе. Моя ревность к Маше такая же, как по отношению к папа? Не знаю. Может ли быть ревность к другой женщине? Не знаю. Почему не было никогда ревности к его прошедшему, к Елене Александровне? Не знаю. Могла бы я так привязаться к женщине? Нет. Вот так и путаюсь. Часто думаю о том, что может произойти дальше, и боюсь, что хорошего не будет. Если бы только мы могли удовольствоваться дружескими, спокойными отношениями, быть всегда уверенными друг в друге, не искать общества друг друга без нужды, быть готовыми служить друг другу и, главное, не быть требовательными, то это было бы не только сносно, но прекрасно. Но боюсь, что мы не сумеем в этом удержаться.