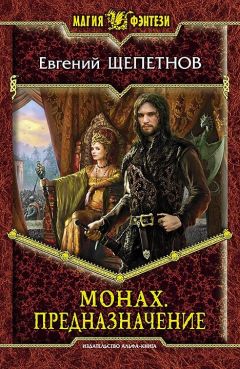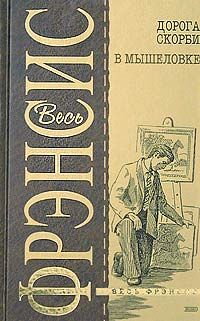Дорога к людям - Кригер Евгений Генрихович
— Слушайте, вы! Там, на балконе!.. У студентов нет билетов? А откуда у них деньги на билеты? Пустите их так!
И на мгновение воцарилась тишина. И тут же взорвалась топотом десятков ног, стуком и скрежетом откидных сидений на галерке, благодарным ревом студентов. Тогда Владимир Владимирович чуть (именно чуть) прибавил звука в голосе и совершенно по-деловому предложил:
— Ти-хо! Все равно вы все меня не перекричите! — И добавил великодушно, щедро, как гостеприимный хозяин: — Самый сильный голос в Советском Союзе сейчас будет вам представлен!
И невероятный шум разом оборвался, перекрыт голосом поистине всесветным, грянувшим без всякого напряжения, просто и весьма деловито.
Тишина...
Но я не стану вспоминать свои тогдашние, огромные, как вселенная, переживания. О том, как читал Маяковский свои стихи, как разговаривал со всеми нами, со всей страной, со всем миром, рассказано достаточно, не стоит повторяться.
Лучше вспомним Баку того времени, Баку двадцатых годов.
...Смешение Азии и Европы... Молчаливые, скользящие, как тени, женщины в парандже и оглушивший нас приезд Маяковского. Огненнобородые купцы из Ирана и такие революционеры-большевики, реформаторы нефтяной промышленности, как неутомимый, вездесущий, властный Александр Серебровский. Деловые кварталы с внушительными зданиями, конторами, банками изгнанных нефтяных магнатов и лабиринты узких, темных средневековых улочек в крепости, где в дни шахсейвахсея еще можно было увидеть обряд самоистязания фанатиков-мусульман. Гигантские жаровни с дымящимися бараньими кишками на базарах и респектабельный ресторан в тогдашнем бакинском небоскребе «Новая Европа». Охота на быстроногих джейранов в степях Азербайджана и уроки биомеханики по Мейерхольду в театральном училище. Суета обреченных последышей нэпа и появление на экранах «Броненосца «Потемкина» — как взрыв, как штурм и победа! Амбалы-носильщики, способные в одиночку таскать рояли на заплечном плетеном «горбе», и первые «эдисоны» в среде нефтяников Апшерона. Древний Баку, где средневековье соседствовало с еще не узнанным, незнакомым будущим, — и само Будущее, сама Революция в деяниях легендарного Кирова.
В Баку мои родители вместе со мной перебрались из Архангельска поздней осенью, когда экзамены в Азербайджанский университет уже закончились и я остался было на мели, теряя впустую год. И тут — о счастье! — меня выручил человек, о котором я просто не имею права умолчать. То был знакомый моих родителей еще по Питеру — знаток искусства сцены, театровед, педагог, блестящий и в свое время знаменитый в Петербурге мастер художественного чтения Владимир Владимирович Сладкопевцев (вы, несомненно, видели его во многих советских фильмах, скажем, в «Чапаеве»). В двадцатых годах он создал и возглавил Бакинское театральное училище, именовавшееся почему-то театральным техникумом (тогда даже в названиях, кстати или некстати, любили помянуть технику). Он-то и сказал, узнав о моей беде: «Зачем Гуге терять год? Пусть пока идет ко мне в училище. Не мечтал быть актером? Не страшно. Научиться чему-то можно всюду, в том числе и в театре...»
Отчего я вспоминаю об этом человеке? Оттого, что и он, и его совсем не обычное училище, и близкие друзья по техникуму (я бы их назвал фанатиками новаторства) сыграли в моей жизни такую же важную роль, как тот моряк-комиссар Драгун, как бойцы 6‑й армии под Архангельском, как мой учитель Алексей Гемп: они вели меня в «сегодня», вели к пониманию примечательных событий нашего времени.
Разрешите же хоть бегло рассказать о том, как, к счастью для театра, я все-таки не стал актером. Как ни странно, я (и советский театр) обязан этим волшебнику театральной педагогики, эрудиту и новатору в своей области Владимиру Владимировичу Сладкопевцеву. Отчего же мой учитель, влюбленный в театр, в конце концов помог мне отдалиться от театра, найти иную дорогу в жизнь? Это произошло потому, что профессор Сладкопевцев был человеком необычайно широких знаний, интересов и увлечений. Преданность искусству театра совмещалась у него с увлечением философией, психологией, тайнами литературного мастерства, такими, новыми тогда, направлениями, как биомеханика или научная организация труда.
Занятия в училище Сладкопевцева дали мне, пожалуй, больше, чем мог дать университет. Это сказано совсем не в обиду университетам. Просто именно со мной получилось так, что счастливые особенности сладкопевцевской школы дали возможность «найти себя», понять главное в себе, в поисках своей судьбы, опереться на бесконечное многообразие увлечений, исканий, переживаний, вызванных общением с талантливым учителем.
Но об этом коротко не расскажешь... Вспомню главное: с первого же курса, едва ли не с первой лекции Владимир Владимирович вызвал во многих из нас ощущение, сперва неясное, неосознанное, будто мы не ученики, а сотворцы учителя, не студенты, а мастера, от которых мир ждет творческих и самостоятельных свершений.
Сладкопевцев захватывал, зажигал нас неистовым новаторством Эйзенштейна, возвышенным реализмом Станиславского, чудом вахтанговских откровений в сфере истинной театральности, озарения таких рыцарей театра, как Марджанов...
Поразительно: Сладкопевцев был уже в летах. Как человек, как мастер он сложился еще до революции. Но право же, он был моложе нас всех, влюбленных в театр девчонок и мальчишек. Он был более эйзенштейновец, чем сам Эйзенштейн, более вахтанговец, чем сам Вахтангов... Биомеханика, НОТ на театре, трагическое через смешное, как у Чаплина, эксцентриада, пантомима, неожиданные, как вдруг блеснувшая мысль, эксперименты в часы ученических этюдов, — в эту атмосферу мы были вовлечены учителем. А ведь шел только 1923 год...
Он не был коммунистом. Вернее, он был коммунистом, но без партийного билета. Он никогда не злоупотреблял революционной фразой. Но и увлечение всем новым, революционным на театре, и постоянное возвращение к наставлениям о достоинстве и чести настоящего актера, и скромность его, и бескорыстие, и душевный огонь — все это было порождено влюбленностью в Революцию. Все это непременно передавалось нам.
В Баку познакомился я с инженером-нефтяником Семеном Борцем. Гражданская война... В хату Борца, где он жил с красноармейцами — двое из них были братьями, — в хату постучали с улицы. Семен Борц с двумя товарищами открыли дверь, третьего не было в хате, он вышел в штаб.
— Гуляем на деревне, — сказали со двора. — Поплясали бы с девчатами. Приглашаем!.. На суп с грибами...
Голос вошел в хату с морозным облаком и исчез вместе с ним. Голос был хриплый от холода, слова с трудом отдирались от замерзших губ.
Один из братьев, великий плясун и насмешник, встал с койки, где спал, накрывшись шинелью, оделся и ушел, виновато улыбаясь. Знал, что идти не нужно, опасно...
Другой брат все еще был в штабе.
Через час в хату постучали снова.
— Принимайте своего, — кричали со двора. — Поел, попил, поплясал!
Борц вышел с товарищем во двор. Никого не было. Стояла лошадь, запряженная в сани. Лицом к небу лежал в санях великий плясун. В лоб его вбита красноармейская звезда, солома и опилки торчат из распоротого живота.
Борц с товарищем вносят веселого парня в хату и кладут на то же место, откуда он встал, приглашенный на гулянку. Каждую минуту может войти его брат. Поверх головы они накрывают плясуна шинелью, садятся на свои места и молчат.
Приходит брат из штаба, бегает по избе, согревает ноги и болтает о фронтовых новостях.
— Что же Федька-то молчит? — спрашивает он наконец.
— Федька спит, — отвечает Борц, и опять брат бегает из угла в угол.
Потом ему надоедает.
— Вставай, Федор, — кричит он, и кровь ударяет ему в голову. Брат плясуна откидывает шинель со скамьи, где тот лежит с красноармейской звездой во лбу.
Борц с товарищем продолжают сидеть на своих местах. Все молчат, молчат, пока кровь шумит, шумит, шумит у них в сердцах.
Выучив этот урок, Борц продолжал необычную трудную свою подготовку к инженерству в отряде по изъятию церковных ценностей. Богобоязненные старухи плевали ему в лицо ядовитой слюной. Он вытирался, улыбаясь. Посильней богохульства была для старух его усмешка.