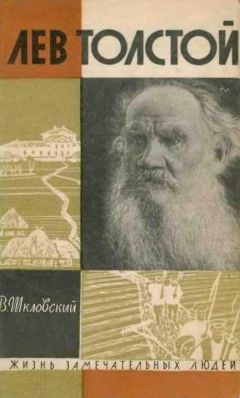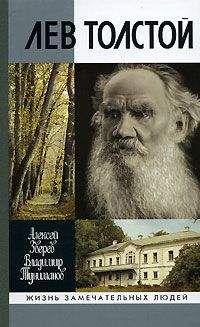Михаил Новиков - Из пережитого
— Я как в аду киплю в этом доме, — говорил он мне печально, — а мне завидуют, говорят что я живу по-барски, а как я здесь мучусь, никто не видит и не понимает.
А когда я был у него в последний раз и ночевал с 21 под 22 октября 1910 г., он был такой плохой, что я дивился в себе, как это может человек жить, мыслить и двигаться, будучи таким изможденным и высохшим? Прямо я еле слышал его слова, и его шаги, когда он подходил и говорил со мной. Точно он был уже какой-то бестелесной тенью.
В разговоре он спросил: был ли он у меня в деревне?
Я с упреком сказал:
— Вы, Лев Николаевич, обещали меня навестить несколько раз, но обещания не исполнили ни разу, а в письме мне писали: «Если бы я и хотел исполнить свое обещание, я не мог бы этого сделать»… Для меня, — говорю, — так и осталось тогда непонятным: почему бы вы не могли приехать ко мне?
— Тогда было время строгое, — шутливо сказал Лев Николаевич, — была монархия, а теперь конституция. Я тоже со своими поделился, или, как говорят у вас, отошел от семьи. Теперь я считаю себя здесь лишним, как и ваши старики, когда они доживают до моих годов, а потому совершенно свободным, и могу в любое время исполнить свое обещание.
Заметивши, что я принимаю его слова за шутку и слушаю с недоверием, он перешел на серьезный тон и торопливо заговорил:
— Да, да, поверьте, я с вами говорю откровенно, я не умру в этом доме. Я решил уйти в незнакомое место, где бы меня не знали. А может, я и впрямь приду умирать в вашу хату. Только я наперед знаю, вы меня станете бранить, ведь стариков нигде не любят. Я это видал в ваших крестьянских семьях, а я ведь такой же стал беспомощный и бесполезный, — произнес он упавшим голосом. Я вам буду только мешать и брюзжать по-стариковски.
Мне стоило большого усилия чтобы не расплакаться при этих его словах, и Льву Николаевичу, видимо, было тяжело это признание. Мы долго молчали. Оправившись, он спросил:
— А вы, конечно, у нас ночуете, как и всегда?
Я сказал, что мне стыдно беспокоить других, но что иначе не знаю как быть, так как среди ночи боюсь один идти на станцию.
— Вот и хорошо, — оживился он, а вы думайте, что ночуете у меня в доме. А когда я к вам приду и тоже заночую — мы и сочтемся. А разве вы ночью кого боитесь?
Я сказал, что волков и людей не боюсь, а боюсь пьяных, так как у себя в деревне видел от них много горя.
— Я всегда думаю об этом, — сказал Лев Николаевич, — вот если бы люди поверили в Бога как в вечность духовной жизни и стали бы жить сообразно этому, разве возможны бы были пьяные и то горе и зло, которое теперь неизбежно сопутствует пьянству? Вы конечно больше моего знаете это горе от пьянства, а я сижу в каменных стенах и только издалека слышу и вижу пьяных. Вы же стоите к ним лицо к лицу, и я понимаю ваш страх. А прежде, в молодости — добавил он, — я их очень любил, они всегда такие откровенные, душа нараспашку, а может, это потому, что сам тогда жил худо.
Прощаясь со мной по обыкновению с вечера, Лев Николаевич долго не выпускал моей руки и много раз повторил:
— Мы скоро увидимся!.. Дай Бог, чтобы мы скоро увиделись…
Я уже был в постели и собирался заснуть, как услышал около себя шаги, в полумраке я увидел опять Льва Николаевича, и готов был принять его за привидение, так легки и беззвучны были его движения. Видя, что я протягиваю руку, чтобы отвернуть свет лампы, Лев Николаевич удержал меня и, садясь рядом на постель, тихо и отрывисто сказал:
— Не надо, так лучше, я к вам на минутку, рад, что еще не спите. Я сказал Душану, чтобы он оставил нас одних. О ваших рукописях — я их сейчас прочел — я напишу своему знакомому Анучину, а еще Короленке, а только я вам советую не разбрасываться, не растрачивать себя по таким мелочам. Вам нужно описать жизнь, у вас так много в ней поучительного, что я готов вам завидовать. Опишите, непременно опишите, я даже прошу вас об этом.
Подумавши, он добавил:
— Мне всю жизнь недоставало того, чего у вас было с избытком, вашей жизни и ваших страданий.
Он хотел уходить. Но, постоявши у двери, вернулся, снова сел на мою постель, говоря торопливо:
— Я не хотел вам говорить о себе, но вот сейчас почувствовал, что я буду не прав, не сказавши вам всей правды о том, почему я тогда и всегда не мог навестить вас. Я от вас не скрывал, что я в этом доме киплю, как в аду, и всегда думал и желал уйти куда-нибудь в лес, в сторожку, на деревню к какому-нибудь бобылю, где мы помогали бы друг другу. Но Бог не давал мне силы порвать с семьей, да и в деревне меня бы осудили за это, моя слабость, может быть, грех, но для своего спокойствия я не мог заставить страдать других, хотя бы и семейных.
Я перебил его, сказавши:
— Для того, чтобы видеться с друзьями, вам и не надо было бросать семью. Ведь это же на время.
— В том и беда, — опять торопливо заговорил он, — что и моим временем здесь хотели располагать по-своему. Тайком я убегать не мог, не делая шума и семейного огорчения, а согласиться на то, чтобы я поехал к вам или к кому другому, жена ни за что не хотела. А если бы я стал настаивать, сейчас бы начались обычные в нашем кругу сцены со слезами, с припадками истерики, которых я никогда не выносил.
— Но вот вы бы все же поехали, — недоумеваючи сказал я, — что бы из этого вышло худого?
— Софья Андреевна сейчас же поехала бы за мной и помешала бы нашей беседе. Это же и было несколько раз, — сказал он. — Вот, когда я уезжал в Крым к Паниным, или вот в Кочеты к дочери. А приехать к вам в крестьянскую избу и делать историю из того, чтобы поздороваться, а через час проститься, — это и для вас было бы и смешно и стеснительно, и для меня глупо и просто бессмысленно.
— Конечно, — продолжал он все так же торопливо, словно боясь, что не успеет или забудет передать мне все те свои мысли, которые он на этот раз считал нужным мне сказать, чувствуя, что мы видимся в последний раз, — если бы я еще в молодости хоть раз накричал на свою жену, затопал бы на нее ногами, она, наверное, покорилась бы так же, как покоряются ваши жены, но я по своей слабости не выносил семейных скандалов, и, когда они начинались, я всегда думал, что виноват я тут один, что я не вправе заставлять страдать человека, который меня любит, и всегда уступал.
Оговариваюсь для ясности, что Лев Николаевич уступал своей жене лишь в тех случаях, когда надо было поступаться своим самолюбием, своими личными желаниями ради семейного мира. В вопросах же принципиального характера ни перед кем не поступался. Не уступил и в главном, в отказе от литературной собственности, за что и нес настоящую пытку в семье последние два года, когда особенно настойчиво семья домогалась от него завещания в их пользу на все его писания: опубликованные и неопубликованные.