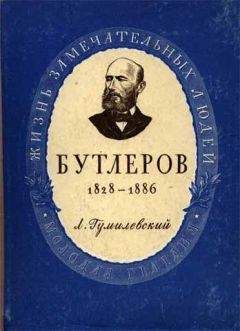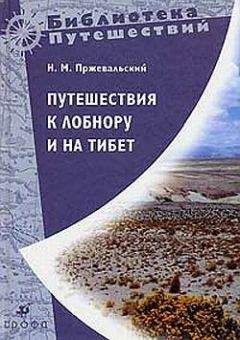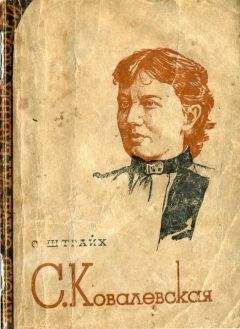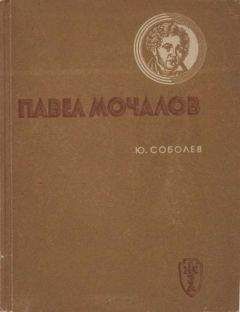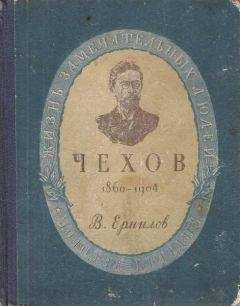Сергей Хмельницкий - Пржевальский
Пржевальский прорубил окно в неведомую до него науке Внутреннюю Азию, совершил важнейшие в истории ее изучения открытия и проложил сюда пути для последующих русских экспедиций. Сам Пржевальский предвидел, что маршруты его путешествий «в будущем послужат руководящими нитями, которые поведут вглубь Азии более подготовленных, более специальных наблюдателей».
Своими трудами, подвигами и открытиями Пржевальский умножил русскую славу. Но и он обязан России собственной славой.
Мировоззрение Пржевальского сложилось под влиянием передовой русской науки пятидесятых-шестидесятых годов. От русских географов, зоологов, ботаников он в дружеских беседах получал ценные указания для своей практической работы в экспедициях. Для успеха путешествий Пржевальского потрудилось немало его соотечественников: и Ягунов, и Пыльцов, и Эклон, и воспитанные им талантливые путешественники Роборовский и Козлов, и самоотверженные герои-казаки Иринчинов, Телешов, Нефедов и другие. В обработке материалов его экспедиций принимали участие видные деятели русской науки.
После смерти великого путешественника другие русские исследователи и, прежде всего, любимые его ученики продолжали дело, завещанное им Пржевальским.
УЧЕНИКИ — ПРОДОЛЖАТЕЛИ ЕГО ДЕЛА
В 1893–1895 годах центральноазиатскую экспедицию Русского географического общества возглавляет Роборовский. Козлов — его помощник. Оба они уже самостоятельные исследователи. Но книги и карты Пржевальского и теперь повседневно помогают его ученикам в суровом труде путешественников.
Вот Роборовский и Козлов в пустыне Хами. «Дорога, местами совершенно пересыпаемая снегом, терялась, — рассказывает Роборовский, — но, пользуясь составленной по съемке H. M. Пржевальского картой этой местности, мы все-таки благополучно шли вперед и дорогу находили».
Роборовский проник в такие районы, где до него не ступала нога европейца. Он совершил уже немало открытий, а в будущем от него ждали еще большего. Но 28 января 1895 года, в Тибете, в горах Амнэ-мачин, Роборовский был разбит параличом. Это несчастье, постигшее его на тридцать девятом году жизни, навсегда прервало его деятельность путешественника.
Во главе следующей центральноазиатской экспедиции, в 1899–1900 годах, стал Козлов. Через пустыни и горы он сумел проложить себе путь в Юго-восточный Тибет, куда Пржевальскому дойти не удалось. Книга, в которой Козлов описал это путешествие, вышла со следующим посвящением: «Памяти незабвенного своего учителя, первого исследователя природы Центральной Азии, Николая Михайловича Пржевальского — посвящает труды экспедиции П. Козлов».
В 1905–1909 годах Козлов достиг и другой цели, которой не успел достигнуть Пржевальский. «Мечта, взлелеянная в течение многих лет, — пишет Козлов, — наконец, исполнилась, хотя исполнилась отчасти: я всегда мечтал сначала увидеть таинственную Лхассу, столицу Тибета, затем уже ее верховного правителя. Случилось наоборот: не видя Лхассы, я встретился с далай-ламой».
Встреча произошла в Урге. Сюда, в 1904 году, переехал далай-лама, чтобы не попасть в руки англичан, вторгнувшихся в Лхассу.
Далай-лама знал о путешествиях Козлова и о дружественных его отношениях с тибетским населением. Первое свидание русского путешественника с правителем Тибета состоялось 1 июля 1905 года. В продолжение двух месяцев Козлов почти ежедневно виделся с далай-ламой и дружески беседовал с ним.
Возвращаясь из следующей своей экспедиции (в восточно-тибетскую область Амдо), Козлов в начале 1909 года вновь встретился с далай-ламой, на этот раз в Тибете. Далай-лама лишь незадолго до того вернулся в свою страну. Англичане, навязав Тибету договор, жестоко ущемлявший его интересы, еще в конце 1904 года вывели свои войска из пределов страны. Но положение в тибетских провинциях, прилегающих к индийской границе, долгое время оставалось напряженным. Политическую поддержку Тибету оказывала Россия. «Осенью 1908 года, — пишет Козлов, — все тибетские дела были окончены. Китай и Россия сделали все, чтобы обеспечить далай-ламе не только свободный проезд на всем огромном протяжении до Лхассы, но и спокойное пребывание в столице Тибета».
В начале 1909 года далай-лама еще не успел доехать до Лхассы и находился в монастыре Гум-бум. Здесь, 23 февраля, состоялась новая встреча Козлова с правителем Тибета. В Гумбуме, как и в Урге, далай-лама почти ежедневно беседовал с Козловым, а при расставании сказал ему: «Спасибо вам за ваш приезд ко мне. Передайте России чувства моего восхищения и признательности к этой великой и богатой стране. Надеюсь, что Россия будет поддерживать с Тибетом лучшие дружеские отношения и впредь также будет присылать ко мне своих путешественников-исследователей для более широкого ознакомления как с моей горной природой, так и с моим многочисленным населением…»
Первая мировая война, а потом интервенция надолго задержали и осуществление новых путешествий и издание подробного отчета об Амдоской экспедиции. Книга вышла только в 1923 году. Козлову тогда было уже 60 лет. Эпиграфом к книге старый, всемирно известный путешественник взял слова из письма, которое за два года до смерти написал ему учитель его Пржевальский: «Твоя весна еще впереди, а для меня уже близится осень».
В продолжение всей жизни Козлов постоянно помнил своего учителя. Снова и снова возвращался он к воспоминаниям о последних минутах, проведенных вместе с Роборовским и Телешовым у смертного ложа Пржевальского: «Слезы, горькие слезы душили каждого из нас… Мне казалось такое горе пережить нельзя… да оно и теперь еще не пережито!»
Это писалось спустя четверть века после смерти Пржевальского!
ПАМЯТНИК
Город Каракол, в котором Пржевальский окончил свой путь, переименован в Пржевальск.
За городом, на крутом берегу Иссык-куля, у порога Центральной Азии, стоит памятник. Он сложен из глыб тяньшанского гранита. Посередине укреплена бронзовая медаль с изображением Пржевальского. На вершине раскинул крылья над картой Азии бронзовый орел. На карте проложены маршруты походов великого русского путешественника.
Внизу расстилается озеро. За ним встают снежные вершины Небесного хребта.
«Этот величественный ряд закутанных в белоснежные саваны великанов стоит на страже дорогой нам могилы, обозначая собою ту грань русской земли, за пределы которой наш славный путешественник делал свои отважные набеги в почти неведомые до него в научном отношении страны», — говорит Семенов-Тян-Шанский.
Памятник Пржевальскому на берегу Иссык-куля близ города Пржевальска.