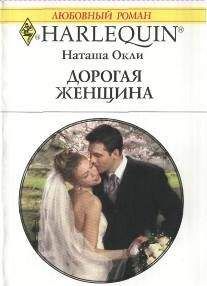Петр Вайль - Стихи про меня
"поди вернись в верховья мира / в забытой азбуке года / где только мила ела мыло / а мы не ели никогда / мертва премудрости царица / мать умозрительной хуйни / пора в мобильнике порыться / взять и жениться по любви". Три на "м" — мыло, Мила, мобильник — из разных времен, но скорее соединяют, чем разъединяют эпохи. И я тот же ведь, нет сомнения: и в тазике на общей кухне земляничным мылом, и по мобильнику с Интернетом.
Не то чтобы перепутать Гаую с Гудзоном или Раменское с Рочестером — не позволит обычная память, но та, которая память впечатлений и ощущений, объединяет все, потому что всё это ты. Обнадеживающий это или безрадостный итог прошедших лет, но другого нет и быть не может, а значит, все в порядке.
Цветков потрошит свою истерзанную тему (или тема терзает его) — разрыв и общность испытанных нами миров. Так же, как двадцатью годами раньше, но все-таки по-другому. Как хорошо это понятно — смена ритма с возрастом. В конце концов, что в нас меняется с годами, кроме темпа впечатлений и скорости ощущений? Все чаще чувствуешь себя стареющим малообщительным попугаем, которого раздражают хорьки, и хочется по второй.
Приближаясь к шестидесяти, Цветков открыл силлабику, погрузив в ее взрослую протяжность прежние эмоции и мысли: "свернута кровь в рулоны сыграны роли / слипшихся не перечислить лет в душе / сад в соловьиной саркоме лицо до боли / и никогда никогда никогда уже". Это ведь та самая саркома, от молодого упругого анапеста которой у меня замирало сердце тогда, в мои первые эмигрантские годы, когда я был так благодарен Цветкову за то, что он вспоминает то же, только лучше говорит: "лопасть света росла как саркома / подминая ночную муру / и сказал я заворгу райкома / что теперь никогда не умру / в пятилетку спешила держава / на добычу дневного пайка / а заворг неподвижно лежала / возражать не желая пока".
Заворгов я в интимной обстановке не встречал, но мог бы предложить со своей стороны школьного завуча по идеологическому воспитанию и даже цензора Главлита, однако не в конкретности дело. Тут прелесть в метаморфозах не хуже Овидиевых: фокус превращения безусловно мужского казенного заворга (как и ухогорлоноса) в безусловно женское постельное создание.
Про Овидия Цветкову подошло бы: он любит щегольнуть образованностью, внезапной и красочной: "Крутить мозги малаховской Изольде", "жаль я музыку играть не гершвин". Обычно это пробрасывается непринужденно, а иногда масса Авессаломов, Персефон, летейских вод, Аттил, Гуссерлей с Кантами и пр. превышает критическую, как в александрийской поэзии.
Но все укладывается в Цветковскую систему образов, такую насыщенную в стихотворении "уже и год и город под вопросом": червонец распластанный, буквы над городом, "Кварели" со склона Везувия, девушка-медичка, подгулявший дядя на столбе, стакан в парадном.
Увиденная из другого полушария, эта обыденная мишура, как всякая мишура, отстраненная временем и расстоянием, по закону антиквариата приобретает ценность символа. Правильная — единственно правильная! — жизненная мешанина. То, к чему Цветков готовился заранее и что увидел: "одна судьба Сургут другая смерть тургай / в Вермонте справим день воскресный". Или еще жестче: "невадские в перьях красотки / жуки под тарусской корой / и нет объясненья в рассудке / ни первой судьбе ни второй".
Будто кто-то может дать объяснение судьбе — какая есть, такая есть.
ВЗРОСЛЫЙ ПОЭТ
Лев Лосев 1937
с.к.
И наконец остановка "Кладбище".
Нищий, надувшийся, словно клопище,
в куртке-москвичке сидит у ворот.
Денег даю ему — он не берет.
Как же, твержу, мне поставлен в аллейке
памятник в виде стола и скамейки,
с кружкой, поллитрой, вкрутую яйцом,
следом за дедом моим и отцом.
Слушай, мы оба с тобой обнищали,
оба вернуться сюда обещали,
ты уж по списку проверь, я же ваш,
ты уж пожалуйста, ты уж уважь.
Нет, говорит, тебе места в аллейке,
нету оградки, бетонной бадейки,
фото в овале, сирени куста,
столбика нету и нету креста.
Словно я Мистер какой-нибудь Твистер,
не подпускает на пушечный выстрел,
под козырек, издеваясь, берет,
что ни даю — ничего не берет.
[1981]
Непременный эмигрантский кошмар: повторяющийся сон о возвращении. Чаще всего — о том, что вернулся, и уже навсегда, никак снова выехать не удается. Мне в первый год раз шесть снилось одно и то же: продуктовый магазин на углу Ленина и Лачплеша, в кондитерском отделе (к которому отродясь не подходил за все годы рижской жизни, да и что бы мне там делать?) покупаю какую-то карамель (и вообще сласти не люблю, а уж карамель тем более), выхожу с кульком на улицу и вот тут-то понимаю, что не будет у меня больше никакого Нью- Йорка, и ничего вообще, кроме того, что сейчас передо мной, и жизнь в подробностях ясна до последнего дня, как беспросветно ясна была до отъезда. Шесть раз я был счастлив, просыпаясь.
У Лосева жанр стихотворных возвращений представлен основательно: "Чудесный десант", давший название первой лосевской книжке ("На запад машина летит. / Мы выиграли, вы на свободе"); "Се возвращается блудливый сукин сын" — стихотворение, открывающее вторую книгу "Тайный советник" ("...в страну родных осин, /где племена к востоку от Ильменя / все делят шкуру неубитого пельменя"); "Разговор с нью-йоркским поэтом" ("Я возьму свой паспорт еврейский. / Сяду я в самолет корейский. / Осеню себя знаком креста — / и с размаху в родные места!").
В родных местах Лосев, как положено поэту, напророчил себе поиски могилы — не своей, но родной. В 98-м, в первый за двадцать два года приезд в Россию, он не смог в Переделкине найти могилу отца, поэта Владимира Лифшица. Бесплодно проблуждав по обледенелому кладбищу несколько часов, обратился к встреченной женщине: "А фамилия как?" — спросила тетка, как бы что-то припоминая, и тут мне показалось, что она выпивши. Я сказал: "Лифшиц". - "Лифчик? Черный такой камушек? Возле Пастернака?" Она повторяла в своих вопросах то, что я ей успел сообщить, но шевельнулась во мне надежда. Но тут она сказала: "К нему еще сына подхоронили прошлое лето?".
В этой документальной повести, диковинно названной "Москвы от Лосеффа", сновидческие возвращения в стихах оборачиваются безнадежной прозой.
Лосев так поздно начал писать стихи, что счастливо избежал множества поэтических иллюзий. В том числе и почти обязательного интеллигентского комплекса долга и вины перед народом и родиной. Не Мистер Твистер, но и не в куртке-москвичке. Родина — язык, словесность. "О Русь моя, жена моя, до боли..." — у Блока красиво, но нельзя быть женатым на России, как же отчаянно не повезло тому, кто отважился на этот катастрофический брачный союз (тот же Блок, Есенин, Корнилов, Рубцов), цитировать правильно именно так: "до боли", без продолжения.