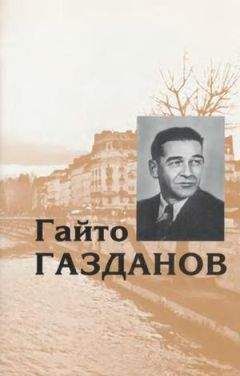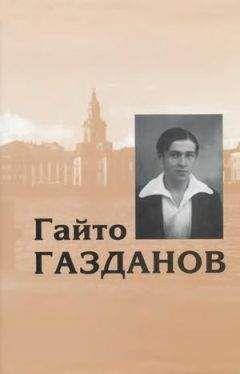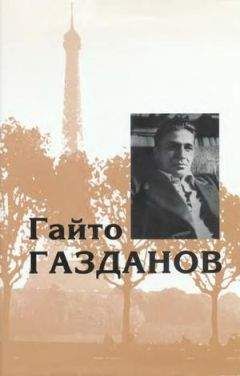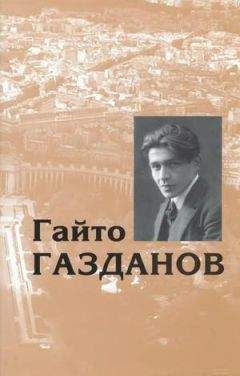Ольга Орлова - Газданов
«— Разве вы не считаете, что есть опасность войны? – спросил Гуськов.
– Ах, миленький, к сожалению, есть, и даже очень, – грустно вздохнул Николай Георгиевич. — Война почти наверное будет. И Гитлер действительно исчадие ада, и расизм ужасная гнусность. Все это человеконенавистничество противно до тошноты. Но, Боже мой, как все-таки было бы хорошо, если бы обошлось без войны. Так не хочется никаких перемен. Как-то сидим здесь, устроились, пьем чай — и так бы дожить. Только вряд ли удастся.
– Неужели вы за Мюнхен? — опять не унимался Гуськов.
– Конечно, нет. — За Николая Георгиевича вступился Эмануил Рейс. — Конечно, предательство Чехии — позор. Мы все тут согласны. Но неужели вы думаете, что вожди западных демократий такие уж круглые идиоты и что их поведение в Мюнхене объяснялось только малодушием и подлостью? Разве мы знаем, были ли Франция и Англия готовы?»
А вот отдельные фрагменты этих разговоров из того же романа:
«Силе национал-социализма, стремящейся ко злу, уничтожению других, народы, которые хотят сохранить свою свободу, должны противопоставить силу же», — убеждал Мануша.
«Всегда неприятно выступать в роли Кассандры. Но если война не будет предотвращена, то встает вопрос: не погибнет ли тогда вся европейская культура? Да, конечно, история не кончится. Со временем возникнут новые цивилизации, может быть черная в Африке. Но я люблю белую и буду жалеть о ее гибели. Вот почему демократии должны идти на предельные жертвы и уступки, чтобы не допустить войны. И в этом открывается положительный смысл Мюнхена», — говорил профессор Зырянов.
«Да, конечно, война — это грязь, преступление, ложь, и ничто не может войну оправдать. Но если война, которая наступит теперь, неизбежна, то уклонение от участия в ней представляется бесплодным. Я глубоко преклоняюсь перед Толстым и Ганди, но, может быть, потому, что я плохой христианин, я не могу принять абсолютного непротивления, непротивления при всех условиях», — продолжал Николай Георгиевич.
«Никогда еще в истории человечества не было так ясно, где добро, где зло. Дело идет о защите культуры, свободы, достоинства человека, и мы все, я в этом уверен, знаем, где наше место в этой борьбе», — заключил Ваня Иноземцев.
Разговоры эти, как нетрудно догадаться, вели участники философско-литературного объединения «Круг», организованного для монпарнасской молодежи Ильей Исидоровичем Бунаковым-Фондаминским (в романе — Мануша). Сам Владимир Варшавский назвал своего автобиографического героя Гуськовым. Георгий Адамович, постоянный почетный член кружка, был выведен под именем Николай Георгиевич. Философ Георгий Федотов получил имя профессора Зырянова, а под поэтом Ваней Иноземцевым подразумевался поэт и прозаик Борис Вильде.
Несмотря на то, что среди членов объединения было немало знакомых и приятелей Гайто, заседания «Круга» он не посещал, в обсуждениях заявленных общественных и философских тем не участвовал. С тех пор как его общественная жизнь из публичной стала тайной, ему вполне хватало собраний в масонской ложе. Кроме того, за два года совместной жизни с Фаиной он уже привык к сложившемуся распорядку, состоящему из работы таксистом, письменного стола и прогулок с женой. Постепенно он даже стал ощущать нехватку времени — чувство совсем не характерное для его предыдущих тридцати пяти лет жизни. Он очень редко появлялся на литературных собраниях. Поэтому именно этот предвоенный разговор участников «Круга» Гайто слышать не мог, однако мнения каждого из собеседников он знал очень хорошо, ибо в них не было ничего отличного от тех разговоров, которые слышал Гайто среди масонских братьев, расходившихся после собраний, и ничего нового из того, что слышал Гайто от большинства русских эмигрантов тех лет.
И не трудно предположить, что среди всех мнений, прозвучавших на заседании «Круга», слова Адамовича и Вильде вызвали бы у Гайто наибольшее одобрение. Хотя тогда, осенью 1938-го, он еще не мог подозревать, во что выльется этот отвлеченный разговор с выяснением позиций на будущее. Как не мог он предвидеть того, что через два года немолодой, больной пороком сердца Георгий Викторович Адамович подтвердит свои слова на фронте с оружием в руках, а Борис Вильде будет расстрелян в застенках гестапо за антифашистскую пропаганду. В то время у русских, как и у французов, еще был соблазн поверить премьер-министру Великобритании Чемберлену, вернувшемуся в Лондон после подписания Мюнхенского соглашения 1938 года со словами: «На нашу землю пришел мир». Еще никто не знал о словах Гитлера, сказанных Муссолини накануне подписания мюнхенского сговора: «Придет время, когда мы вместе должны будем разгромить Англию и Францию. Надо, чтобы это произошло, пока мы останемся во главе». Еще никто на русском Монпарнасе — ни участники «Круга», ни сам Гайто – не мог предвидеть, как будущей весной немцы забудут о своем обещании, что Судеты — их последняя территориальная претензия. Немецкие колонны будут маршировать по Праге — городу, куда с надеждой посылали они с друзьями свои первые рассказы. Как не ожидали они, что ровно через год, 3 сентября 1939 года, на третий день оккупации Польши, Франция окажется в состоянии войны с Германией и всем иностранцам будет предложено подписать декларацию на верность Французской республике. Ни Газданов, ни Варшавский, ни Адамович, ни Вильде не знали, что свой выбор им надлежит сделать так скоро. Но, как только война была объявлена, Гайто решил поставить свою подпись под декларацией без промедления.
Первого сентября 1939 года, выйдя из здания префектуры своего района и стоя под полуденным парижским солнцем, Гайто разглядывал удостоверение, что он, Георгий Иванович Газданов, подтверждает свою верность и преданность республике Франция. …Уже в который раз за последний год он с тоской и отвращением подумал о предстоящей войне, которой противилось все его существо, противилось куда больше, чем тогда, когда он отправлялся на свой первый фронт. И в который раз он вспомнил свой разговор с родным дядей перед отъездом на Гражданскую войну о том, на чьей стороне правда и стоит ли идти за нее воевать: «А почему, собственно, ты идешь на войну?» — и свой неуверенный ответ: «Я думаю, что это все-таки мой долг». Вспомнил нотки разочарования в дядином голосе: «Я считал тебя умнее».
И в который раз он вновь спорил с дядей. Тогда, в свои шестнадцать лет, он сделал правильный выбор. И дело было не в том, что он был естественным для юного человека, а в том, что его не покидало ощущение собственной правоты. Он даже пожалел, что не объяснился тогда с дядей до конца, так, чтобы тот его понял. «"Не кажется ли тебе, что правда на стороне белых?" — "Правда? Какая? В том смысле, что они правы, стараясь захватить власть?" — "Хотя бы"».