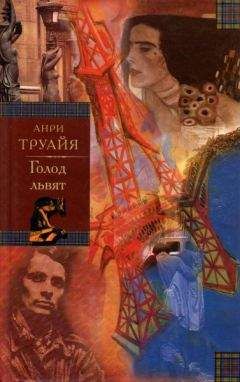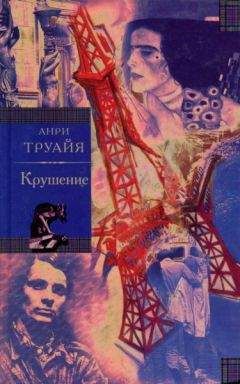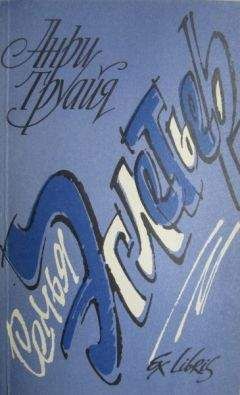Анри Труайя - Гюстав Флобер
10 июня 1871 года Эдмон де Гонкур помечает в своем «Дневнике»: «Сегодня вечером ужинали с Флобером, которого я не видел со смерти брата. Он приехал в Париж запастись материалами для своего „Святого Антония“. Он все тот же, прежде всего – литератор. Катаклизм, кажется, не коснулся его, ничуть не оторвал от невозмутимого изготовления его книги». Поверхностное суждение, поскольку Флобер был глубоко потрясен войной и беспорядками, которые последовали за поражением. Если он все-таки продолжил работу над своим произведением, то только для того, чтобы выжить душевно, оказавшись в самом центре катастрофы. Все, что он видит, все, что слышит в Париже, угнетает, обескураживает его. «Трупный запах вызывает отвращение меньше, нежели миазмы эгоизма, который у всех на устах, – пишет он Жорж Санд по возвращении в Круассе. – Вид руин – ничто по сравнению с безмерной парижской глупостью. За редким исключением, все, показалось мне, сошли с ума настолько, что впору их вязать. Одна часть населения жаждет задушить другую, а та питает те же чувства. Все это ясно читается в глазах прохожих. А пруссаков больше нет. Их оправдывают, ими восхищаются».[498]
Парижские впечатления столь сильны, что он с трудом возвращается к работе. Ему кажется, что дом в Круассе пропах запахом прусских сапог. Комнаты, в которых жили солдаты, заново обиваются обоями. Их выбрала Каролина. Флобер озабочен помимо этого множеством других домашних проблем. Он спрашивает у племянницы: «Ты написала все квитанции, которые нужно оплатить? Ты уже оплатила что-нибудь? Не знаю, что нужно делать? Какое жалованье нужно платить двум служанкам?»[499] Затем к нему возвращается вдохновение, и на какое-то время он забывает о раздражительности, горечи, печали. Временами даже, переживая галлюцинации святого Антония, он начинает думать, что Франция не была побеждена. «Я почувствовал себя так хорошо, оказавшись снова дома, среди своих книг, – пишет он принцессе Матильде. – Я продолжаю, как и раньше, обрабатывать фразы. Это так же безобидно и столь же полезно, как обрабатывать на кругу края тарелок».[500] А госпоже Роже де Женетт: «Мое единственное развлечение – дважды в день подавать матери руку, чтобы вывести ее в сад. После чего я поднимаюсь к святому Антонию… Бедняга, который тронулся головой после спектакля ересей, приходит послушать Будду и присутствует теперь на вавилонских оргиях. Я готовлю ему самые сильные».[501]
Французы в порыве национальной солидарности по призыву Тьера подписываются на заем для досрочного освобождения оккупированной территории. Флобер сам озабочен деньгами. Состоянием госпожи Флобер управляет Эрнест Комманвиль. И, похоже, отнюдь не преуспевает в своем деле. «Что касается меня, то я с января месяца получил только тысячу пятьсот франков твоей бабушки, а мне через пару недель будут нужны три тысячи»,[502] – пишет Флобер племяннице. Он, разумеется, считает для себя унизительным просить, таким образом, помощь у молодой женщины. Однако в течение всей жизни он был далек от цифр. Старый ребенок, не способный жить в деловом мире. Как только он выходит из-за стола, он теряется. К счастью, Франция успокаивается. «Политический горизонт, кажется мне, проясняется! – пишет он госпоже Роже де Женетт. – О! Если бы только можно было привыкнуть к тому, что имеем, то есть жить без принципов, без шуток, без правил! Думаю, что подобная вещь в истории и происходит в первый раз. Неужели это начало позитивизма в политике? Будем надеяться».
22 июня 1871 года пруссаки оставляют окрестности Руана.
Глава XVIII
Немного больше одиночества
Отныне жизнью Флобера распоряжается святой Антоний. Он пишет его в Круассе и едет в Париж, чтобы поработать в библиотеках. В городе малолюдно, он смотрит на парк Монсо из окон своей квартиры, ложится рано спать и отдыхает от назойливости матери, которую обожает, но она утомляет его. Чтобы развлечься, он отправляется в Версаль, где в Военном Совете идет процесс коммунаров. Он считает суровое отношение правосудия к бунтарям проявлением благоразумия нации. Затем позволяет себе кратковременную поездку в Сен-Грасьен к принцессе Матильде, которая после подписания мира вернулась во Францию. Но это лишь короткие паузы, поскольку мать хочет, чтобы он скорее вернулся домой. «Твоя бабушка все-таки излишне требовательна, настаивая на моем возвращении, – пишет он Каролине 9 августа 1871 года. – Думаю, что в моем возрасте я имею право хотя бы раз в год делать то, что нравится мне. В последний раз, когда я приехал сюда в июне месяце, я не сделал того, что собирался сделать, из-за той самой глупой привычки, которую взял себе за правило, – заранее назначать день возвращения, будто это так важно!» Несмотря на этот слабый протест, он покорно возвращается в Круассе, как и предполагалось, во второй половине августа и отмечает, что война состарила мать «на сто лет». Поскольку она не в состоянии больше оставаться одна, он не может поехать к Элизе Шлезингер, которая находится сейчас в Трувиле, где оформляет наследство мужа. Однако умоляет подругу повидаться с ним в Круассе: «Приезжайте, нам столько необходимо сказать друг другу такого, о чем нельзя или можно лишь вскользь сказать в письмах. Что вам мешает? Разве вы не свободны? Матушка моя с большим удовольствием примет вас, помня о старых добрых временах».[503] Ему необходимо возвращаться в далекое прошлое. Любовь и дружба, которые были в его жизни, являются утешением в череде ужасных дней. В письмах к Жорж Санд он выплескивает свой политический гнев. «Мы барахтаемся в последе Революции, которая оказалась недоноском, неудачей, фиаско, что бы ни говорили, – пишет он ей. – Для того чтобы Франция воспрянула, ей надо перейти от вдохновения к Науке, надо забыть любую метафизику, заняться критикой, сиречь изучением сути вещей… Сомневаюсь, что мне покажут на существенное различие между этими двумя терминами: современная республика и конституционная монархия – тождественны. Да и к чему! Об этом спорят, кричат, из-за этого дерутся. Что касается доброго народа, то „всеобщее бесплатное образование“ его прикончит… Первое лекарство – нужно покончить со всеобщим избирательным правом, позором человеческого разума. В ныне существующем одна часть имеет преимущества в ущерб остальным; количество преобладает над разумом, происхождением и даже деньгами, которые стоят больше количества».[504] Или же: «Думаю, что бедняки ненавидят богатых, а богатые боятся бедных. Так будет всегда. Внушать любовь одним, равно как и другим – бесполезно. Прежде всего нужно просветить богатых, которые в общем и целом сильнее».[505] И еще: «Считаю, что любую Коммуну следовало бы приговаривать к галерам и заставить этих кровавых безумцев расчистить парижские руины, надев им цепь на шею, как настоящим каторжникам. Только это оскорбит человечество. С бешеными собаками обращаются ласковее, чем с теми, кого они укусили. Так будет до тех пор, пока всеобщее избирательное право будет таким, каково оно есть… На индустриальном предприятии (тоже общество) каждый акционер голосует согласно своей части. Так должно быть и в управлении нацией. Я стою больше, нежели двадцать избирателей из Круассе. Должно учитывать деньги, разум и даже происхождение, то есть все сильные стороны. А я до сих пор вижу лишь одну – количество».[506]