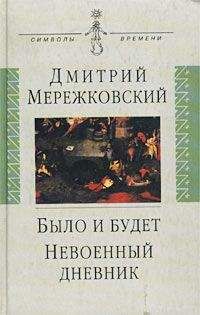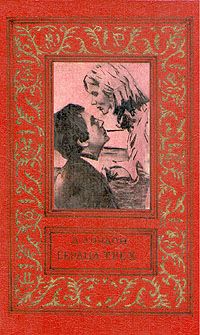Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916
– Но почему же вы-то работаете?
– Я не призван. Я за союз не прячусь, и когда позовут – на минуты не останусь здесь, уйду.
– Значит, ждете, когда и вас силой погонят? Так не лучше ли было бы не ждать этого позорного принуждения, а пойти самому добровольно.
– А на это у меня свои соображения, а я вам поясню: никакого патриотизма, никакой особенной любви к родине у меня нет. Убивать или быть убитым я определенно не хочу и добровольно не пойду. Вы же знаете, что есть такие положения, когда ты вынужден быть зверем. Вы не хотите бить вот этого человека, но он вас бьет, и вы, охраняя себя, должны сопротивляться. Вас принуждают обстоятельства. Здесь вы не хотели бы идти в окопы, но вас принуждают и люди, и обстоятельства. Вы покоряетесь. И вот я жду, пока не придет эта неизбежность. Здесь вопрос уже приходится ставить несколько в иную плоскость. Здесь не ваши личные желания играют роль, а нравственная ваша обязанность. Положим, решено собрать 10 тысяч офицеров к воинским частям. А эти 10 тысяч ловко спрятались за союзы, и вполне естественно, что вместо них идут какие-то другие 10 тысяч. Это уже выходит, что вместо себя подставить другого, который мог бы избежать опасности, если б вы не спрятались за ширму. Здесь ясно, что дело нечестное – нечестное по самому обыкновенному земному закону, без всяких размышлений о высоком долге и прочем.
16 октября
Холодна и строга осенняя ночь. Безмолвны обитые ветром деревья, – словно на страже, они напряглись и раскинули злые, безлистные сучья. Крыши заострились, как нос у покойника: окна, словно фальшивые, злые глаза, матовеют во тьме… А надо всем – высокое, прекрасное, звездное небо. Там страшная, царственная тишина – тишина беспредельной, безгранной пустыни. Плещутся в небе, словно в океане, золотые рыбки, промерзшие чистые, нежные звезды. И вот-вот разорвется темно-синий небесный хитон – разорвется и засыплет тихую землю ликующим быстрым алмазным дождем. И каждый алмаз умчится искать родную человеческую душу; осветит, осчастливит ее и, быстрый, как дух, трепеща и играя, снова умчится в небесную ширь.
Какая обильная красота в этой беззвучной и строгой тишине! Ни вздоха, ни шелеста, ни голоса человеческого. Уснула земля. И вдруг, словно эхо бессильных и тяжких проклятий могучего демона, жадно и глухо во тьму ворвались отдельные стоны орудий. Снова и снова, и так без конца. Растревожили сонную, тихую землю, словно псы торопились пролаять покой. Зажигались снопами ракеты, долго плавали в темной дали, и усталые, нежные отблески как-то нехотя клали по темной кайме опьяненного звездами неба. И небо дрожало, словно боялось, что в бледной земной полосе затеряются, сгибнут красавицы звезды. Тихо дрожало. А бархатный купол стал непроглядней – чернее древесной смолы… Сбились к нему перепуганно-робкие звезды; нежно прильнули на мрачной его пелене и заиграли по-прежнему чистым и трепетным светом. Больше нет тишины на земле. Где-то ржали холодные кони; где-то звякнули камнем о камень, и за речкой, на том берегу, чей-то слабый и сдавленный голос продышал изо тьмы:
– Заиграли. Опять громыхают.
И ему отозвался другой:
– Погромыхивают.
И умолкли. Ни слова. Ни звука. А на речке быстрела вода. И по-старому чистые звезды мерцали во тьме. Вдалеке замирали тяжелые стоны, все реже и реже вздыхали бесстрастные жертвы могучих орудий.
16 октября
Под окном речка, а за речкой, на том берегу, по избушкам, как пчелы по ульям, разместились солдаты. И суета у них такая же бесконечная, как у пчел: сбегают по крутому берегу вниз, полощут белье, потом развешивают его на изгороди, на деревьях, на решетке, на затворах окна. И все время перебегают с места на место: то заглянут в сарай, то в соседнюю избушку, то в лавочку. И в лавочку особенно часто, потому что за прилавком там сидит румяная и приглядная молодица. Ходят туда и по делу, но больше поточить балясы. Вот он, черномазый, как уголь, и коренастый, как тумба, быстро взлетел наверх с полным ведром воды. Путь, кажется бы, прямой, к себе в избу, – ан нет, оказалась спешная нужда забежать в лавчонку: так и прет туда с ведром.
Ранним утром берег кишмя кишит солдатами: здесь им просторный и всегда чистый умывальник. Распоясые, всклокоченные, сморщенные и сгорбленные от холода, мчатся они сюда сломя голову, чтобы хоть на бегу немного посогреться. А по утрам теперь стужа смертная, такая стужа, что и солнечные лучи помогают только к полудню… Река засветлела. Ввечеру у нее блестело только зыбкое, упругое лоно, а по краям, у самых берегов, было сумрачно и жутко. Теперь на песочке, у берега, вода словно поредела, сделалась светлой и. ясной, а посередине зарябилась, скаталась в упругие стальные жгутики и прочернела. Сбегаются солдаты, и начинается вакханалия. Впрочем, каждый моется по-своему. Вот этот крепкий русый парень трет себе лицо, шею и голову настолько отчаянно, настолько размашисто и крепко, словно чистит сапоги. Вода, холодная до боли, стекает ему за рубаху и на грудь, и на спину, и в рукава, но ему словно и дела нет: натерся, намылся и так же отчаянно начал крутить из стороны в сторону холщовым полотенцем. Когда намылился, отбросил мыло на траву, как ненужную, лишнюю вещь; другой положил свое мыло на кончик сапога и сгибался бережно и осторожно, чтоб не свалить; третий забрался кверху, положил его в траву, снова спустился и начал умываться. Этот последний как-то странно растирал его в руках: ладони были совершенно распрямлены и тесно прижаты одна к другой, тер он медленно и тихо, словно боялся раздавить какую-то драгоценность; потом, намыливаясь, бережно прикладывал ладони к щекам, к вискам, ко лбу, словно клал туда мазки, или ощупывал чуткое переболевшее лицо. Мылся не пригоршней, а одной рукой – другая растирала. Когда подымались в гору, игривый сосед ударил его полотенцем по заду. Мыльник повернулся, что-то заметил ему спокойно и вразумительно, потом тряхнул рукой по собственному заду, словно там могло что остаться от чужого полотенца. Ему было лет 35. Бежали другие – с ведрами, чайниками, кружками. Толкались, кричали, хохотали, брызгались водой. По всему берегу было невообразимое оживление, а пожалуй, и настоящее веселье – веселье молодого, сильного, холодного утра.
У ДрисвятРассказывал офицер. По делам полка он остался на месте, а полк давно уже переправился в Румынию. Вечером он заходил к нам скоротать время, а так как любил певануть, то частенько и «спивалы».
У Дрисвят было гнусно. Мы стояли там зимой: вьюги, метели, высокие сугробы и непроглядная тьма. Там и днем были какие-то странные сумерки… По озеру надо было идти версты 4, прежде чем доберешься до неприятельской проволоки. А устроился неприятель таким образом: протянул рядов 6–8 проволоки и тут же, вслед за рядом, поперек всего озера выбил прорубь, а за нею новые ряды. Вот и подступись. Так простояли целую зиму безо всякого дела. Разведки, конечно, были, и часто с потерями, но смысла мы в них не видели никакого. Часто в пургу закружишься и не знаешь, куда идти: где уж тут «языка» достать. Одному товарищу-офицеру было поручено принести во что бы то ни стало хоть пол-аршина неприятельской проволоки. Ночь была чернее смолы. Он сразу же сбился, солдаты растерялись, и они втроем уже только на заре кое-как нашли свою часть. Так что же он сделал? Взял свою проволоку и представил. Поверили – тем и дело кончилось. А дело ведь грозило позорной смертью, если б открылся обман. Да и недолго жил он после того: ранней весной поднялся он наблюдателем на аэроплане. Перед наступлением надо было окончательно выверить неприятельские места. Навстречу, значительно выше, летел чужой аэроплан. Когда сравнялись, верхний отчаянно стал бить из пулемета и, по-видимому, что-то пробил у нашего, потому что сейчас же там показался дымок: это вспыхнул бензин. В это мгновение мы увидали, как в воздухе распласталось человеческое тело: охваченный ужасом офицер выбросился за борт, а обгоревшего и разбитого летчика нашли за 10 верст, на луговине – он до последней минуты не терял надежды принизиться вовремя и сгорел за рулем, А бедный офицер расколотился о те самые окопы, в которых зимовал долгие месяцы…