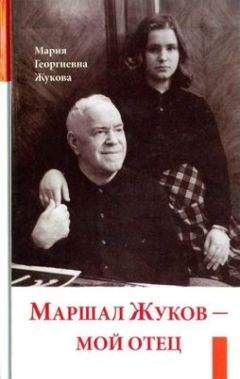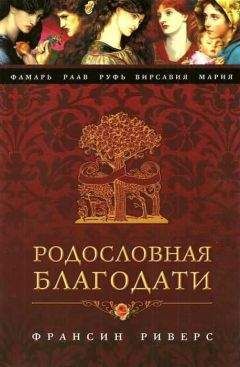Игорь Голомшток - Воспоминания старого пессимиста. О жизни, о людях, о стране
Со мной контракт тоже был порван. Впрочем, меня это не очень огорчило, хотя работа была интересная. Из передач рождались мои книги: «Лагерные рисунки Бориса Свешникова», «Искусство авангарда в лице его представителей в Европе и Америке», «Английское искусство от Ганса Гольбейна до Демиена Херста». Но работать при новых порядках на ВВС я бы не мог.
* * *
В эмиграции моя семейная жизнь пошла наперекосяк. Как, очевидно, ясно из предыдущего, до сорока лет у меня, по сути, не было ни дома, ни семьи; я представлял собой довольно редкий случай еврея без родственников. Работа, дружеские связи, культурные интересы у меня явно преобладали над заботами о семье и быте. Я влюблялся, но мои пассии явно полагали, что муж я никакой, и взаимностью не отвечали.
«Конечно, женщина — это человек, — говорил мой друг Саша Пятигорский, а потом, наклонившись к уху собеседника, добавлял: — но мы-то с вами знаем, что это не так». Очевидно, я любил женщин, как любил музыку, ничего в них не понимая. Так, прошло пятнадцать лет моей влюбленности в Нину, пока мы не стали жить вместе. О женитьбе я не думал: сама процедура в советском Дворце бракосочетаний представлялась мне уродливой и бессмысленной. То, что для женщины брак есть фундамент устойчивого быта, я не понимал.
Ностальгией Нина, слава Богу, не страдала, но напряженность московской жизни не прошла для нее бесследно. К тому же Вениамин родился у нас, когда Нине было уже сорок три года, и, возможно, она пережила родовую травму. Я этого не заметил. Когда мы пришли в ЗАГС для регистрации рождения ребенка, Нина вдруг решила записать его на свою фамилию. Как она объясняла потом, она боялась, что мое имя может ему повредить, а из России она решила не уезжать. Для меня это был удар. Потом все обошлось, мы уехали, но хвост взаимных обид потянулся за нами и в эмиграцию. В последние годы мы фактически находились в разводе. По приезде из Америки я снял комнату в Лондоне, Нина осталась в нашем доме в Оксфорде. А тут появилась Флора, и я влюбился. И, как и с Ниной, прошло восемь лет сомнений и колебаний со стороны Флоры, прежде чем мы окончательно соединились.
С Флорой я познакомился незадолго перед эмиграцией в Музее изобразительных искусств, где она после окончания университета работала сначала экскурсоводом, а потом научным сотрудником отдела археологии. Знакомство было шапочным, но, кажется, мы симпатизировали друг другу. Когда мужская часть сотрудников выбирала «мисс Музей», я отдавал свой голос Флоре, хотя красоток в музее был целый цветник.
В 1981 году я получил письмо из Вены: Флора сообщала, что ее муж, московский дирижер и скрипач, получил приглашение на работу в Голландию и они эмигрировали из СССР. Вскоре после приезда они расстались. Флора оказалась одна, в чужой стране, без языка, и только упорство и сила характера помогли ей освоить голландский и устроиться на работу в туристическое бюро. Возила туристов по Голландии, Франции (она хорошо владела французским), Бельгии, приезжала в Лондон (где и начался наш роман), читала лекции в Амстердамском университете, много лет преподавала на летних курсах Сахаровского университета в Баварии, писала статьи в русские газеты — словом, занималась всем тем, чем зарабатывали на жизнь образованные эмигранты-гуманитарии, оказавшиеся в чужих странах.
Ее семейная история типична для многих еврейских семей, приехавших в СССР из окраин бывшей Российской империи. Ее отец, Михаил Хацкелевич Гольдштейн, происходил из местечка Лошиц под Варшавой, мать, Берта Иосифовна, из такого же местечка недалеко от Пинска в Белоруссии. В начале прошлого века их семьи бежали от еврейских погромов в Аргентину, где и познакомились будущие родители Флоры. Как и многие евреи с российских окраин, они сочувствовали социализму: мать в молодости была как-то связана с Бундом, отец писал статьи для газет социалистического направления. В конце 1920-х годов они из Аргентины приехали в СССР, чтобы помогать строить тут вожделенный социализм. В Ленинграде их принимали как почетных гостей, но вскоре отправили строить этот самый социализм в Биробиджан. Условия тут были суровыми и социализмом не пахло. Умерла их маленькая дочка — просто замерзла в неотапливаемом бараке. Спустя два года семья перебралась в Москву — Михаила Гольдштейна приняли в Литературный институт. Здесь в 1933 году родилась их старшая дочь Карма, а в 37-м — Флора. И в том же году отца арестовали как шпиона какого-то иностранного государства. В тюрьме он просидел два года, но после падения Ежова был освобожден вместе с небольшим числом ранее осужденных. Потом он на коленях просил прощения у жены за то, что привез ее в эту страну. В 1941 году Михаил Гольдштейн добровольцем пошел на фронт в качестве военного переводчика с немецкого. В 1943-м он погиб под Смоленском.
Берта Иосифовна осталась одна — без языка, без помощи, с двумя дочерьми на руках. Очевидно, только сила характера позволила ей не только выжить, но и воспитать детей. Девочки ходили в музыкальную школу учиться играть на скрипке. Потом Карма играла в оркестре и преподавала, Флора окончила отделение археологии исторического факультета МГУ.
Нина в силу каких-то непонятных мне идей, крутящихся в ее голове, на развод не согласилась. Так мы с Флорой и живем во грехе.
Вместо заключения: о пользе пессимизма
В наши нелегкие времена достаточно быть пессимистом, чтобы прослыть пророком. Пророком, правда, я не прослыл, но в политическом отношении мои самые мрачные предчувствия и предположения всегда оправдывались. Я не был ни ленинцем, ни сталинистом, я не верил ни в социализм с человеческим лицом, ни в демократию как в панацею от всех социальных зол и несправедливостей мира сего, я не был очарован политизированным демократическим движением, не верил в оттепель 1960-х и в перестройку 1980-х, понимая, что в России все и всегда возвращается на круги своя. Я не разочаровывался, потому что мой пессимизм оберегал меня от очарований. И на старости лет бессонницей я не страдаю, сплю спокойно и совесть меня не мучает, как многих моих современников, переживающих ошибки своей молодости.
Пессимистам жить трудно, зато умирать легко.
Лондон — Амстердам. 2009–2012.
Примечания
[1]
Фомин за ряд убийств намотал на себя такой срок, что терять ему уже было нечего: при отсутствии смертной казни он мог убивать и дальше. Закон о смертной казни на Колыме то отменялся, то снова вводился. На политических этот закон не распространялся — их расстреливали независимо от его наличия или отсутствия.