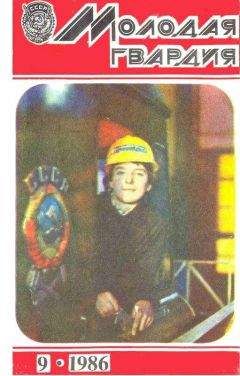Эраст Кузнецов - Павел Федотов
Подписи, заметно расширяя границы показываемого, меняли вместе с тем и назначение рисунков: каждый становился маленьким спектаклем и, следовательно, требовал публики — не близких людей, которым, показывая, все можно обсказать, но посторонних. Закономерно явилась мысль рисунки издать — или подбирая отдельными сериями по темам, или выпуская регулярно, наподобие журнала.
Никогда еще в России не обнаруживалось столько интереса к иллюстрированным изданиям и никогда их не выходило столько, сколько в 1840-е годы. Регулярно выпускались в свет «Наши, списанные с натуры русскими» — тетради по восьми — двенадцати страниц по 40 копеек серебром каждая. В них блистал Вильгельм Тимм, кстати, тоже бывший баталист, ученик Зауервейда. (Чем не пример для Федотова? Одаренный и удачливый, в меру правдивый и в меру бойкий, жизнь свою он прожил ровно, идя в ногу со временем, не отставая от него и не опережая и неизменно оказываясь полезным и приятным обществу.) Выходил с 1846 года знаменитый «Ералаш» — четыре тетради большого формата в год, по полтора рубля серебром каждая. Его вел Михаил Невахович, тощий и желчный человек, художник-дилетант из небездарных: сам придумывал темы и даже набрасывал некоторые карикатуры, передавая их потом профессиональным рисовальщикам и граверам. «Ералаш» гремел по обеим столицам и по провинции, пока не пал в неравной борьбе с цензурой.
Самое дело журнального рисовальщика было Федотову не внове. Еще год с лишним назад, в конце 1847-го, Николай Алексеевич Некрасов пригласил его вместе с Николаем Степановым, Александром Агиным, тем же вездесущим Михаилом Неваховичем в «Иллюстрированный альманах». Иллюстрировать досталось немало: «Ползункова» Достоевского, «Фомушку» Станкевича, «Лолу Монтес» своего приятеля Дружинина, «Встречу на станции» Панаева, «Бобыля» Григоровича и «Двух помещиков» Тургенева. Агин сделал три листа к «Истории капитана Копейкина», где в виде отставного капитана Копейкина запечатлел другого отставного капитана, Федотова, прибавив ему в облике несколько плотоядности. Досталось немало, но пошло меньше. Очерк Григоровича отложили, рассказ Тургенева пришлось вообще снять, потому что с ним альманах не прошел бы между рифами цензуры, впрочем, и это жертвоприношение не помогло, и в марте 1848 года альманах был окончательно зарезан.
Федотов был уже близко знаком и с компанией журнальных художников. Скорее всего, именно Бернардский, более опытный, успевший в поисках заработка набегаться по издателям, и придумал выпускать альбомы карикатур по примеру «Ералаша». Нашлось и название, ввиду опасного времени, возможно, более невинное — «Вечером вместо преферанса», а про запас еще одно, предложенное Федотовым, — «Вечерний пустозвон».
Мог в самом деле сложиться недурной союз рисовальщика и гравера, не хуже, чем прославленный союз Агина с Бернардским, родивший иллюстрации к «Мертвым душам», — если не лучше, потому что, как ни крути, Агин это Агин, а Федотов — все-таки Федотов. Однако дело не двинулось дальше общего проекта да удачно придуманного названия. Не были даже начаты хлопоты о разрешении, потому что в ночь на 23 апреля 1849 года Бернардского забрали в числе других, принадлежащих к кружку Петрашевского.
Разгром кружка Петрашевского был лишь звеном в цепи событий, сгущавших и без того тошнотворную атмосферу российской жизни; каждый день казалось, что хуже быть не может, а на другой день оказывалось, что может быть еще хуже. Полиция свирепствовала, цензура безумствовала, доносительство процветало как никогда. Великий животный страх, охвативший Николая I еще при получении первых известий из Франции, все возрастал и находил выход в мерах то бессмысленных, то жестоких, то бессмысленно-жестоких. Чем же мог порадовать новый 1849 год, начавшийся запретом на употребление спичек, игру в лото по клубам и на маскарады с лотереей-аллегри?
Чудовищность расправы с людьми, которые не строили никаких планов покушения на особу императора, не входили в заговоры, не помышляли о низвержении существующего строя, а просто делились друг с другом мыслями о настоящем своей родины и соображениями о ее будущем, — эта чудовищность была слишком очевидна даже для успевших ко всему привыкнуть российских подданных. В дело петрашевцев гребли всех — и причастных к распространению социалистических идей, постоянных участников «пятниц» у Петрашевского, и полупричастных, слушавших чужие споры, и вовсе не причастных, а просто бывавших иногда у Петрашевского на Садовой — «любивших его хорошие ужины по тем же пятницам», как заметил Павел Анненков.
С некоторыми из них Федотов был знаком или мог быть знаком. С тем же Бернардским, который, впрочем, был как раз из тех, кто оказался в деле сбоку припеку и, по свидетельству Льва Жемчужникова, посещал Петрашевского (еще с весны 1848 года), «не имея никакого представления о социалистических учениях и коммунизме», — его уже в середине июня, не доведя даже до суда, и отпустили (разумеется, под полицейский надзор). С настоящим петрашевцем Баласогло, который водился со многими художниками — Бейдеманом, Лагорио, Трутовским. Может быть, еще с одним петрашевцем, Александром Пальмом, братом художника И. Пальма, которого Федотов должен был знать. С Владимиром Стасовым и Аполлоном Майковым, привлекавшимися к следствию. Со штабс-капитаном Дмитрием Минаевым, также имевшим приятельские связи в кругу федотовских знакомых.
Всё же этого недостаточно, чтобы всерьез говорить о причастности Федотова к петрашевцам. Многое носилось тогда в воздухе, многое зарождалось в умах и сердцах, родня разных людей, подчас понятия не имевших друг о друге и не помышлявших соединяться в кружки и общества. «…Чрезмерно большее число, в сравнении со стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев, осталось совершенно нетронутым и необеспокоенным. Правда, они никогда и не знали Петрашевского, но совсем не в Петрашевском было дело во всей этой давно прошедшей истории…» — так вспоминал Достоевский, а уж он-то знал, что говорил.
В попытках представить Федотова петрашевцем, точно так же, как Грибоедова декабристом, ощущается некое неуважение к великим людям. Словно нам мало одного того, что они сами по себе суть Грибоедов и Федотов, и им надо еще выписать билет на гражданскую благонадежность.
Слишком уж был Федотов сосредоточен на своем кровном деле, доставшемся ему так трудно и так поздно, слишком спешил наверстать упущенное и слишком многое собирался еще сделать, чтобы всерьез посвящать себя социальным учениям и их пропаганде. Да и перечитывая все его оставшиеся записи и заметки, скрупулезно извлекая из них те немногие, что имеют мало-мальски политический характер, и толкуя их самым расширительным образом, не отыскать в них ничего, что свидетельствовало бы о зрелых и определенных политических взглядах.